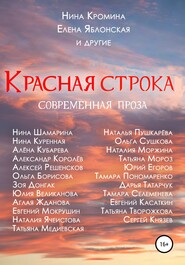 Полная версия
Полная версияКрасная строка
Сергей Князев

Князев Сергей Владимирович. Родился в 1981 году в Москве, закончил факультет документоведения и юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета. Стихи пишет с 17 лет; окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. В 2009 году выпустил сборник стихов «Вечер серебрится» и в том же году был принят в члены Московского городского отделения Союза писателей России. Помимо литературы (в основном классической), среди своих увлечений выделяет музыку – джаз, англо-американский рок 60-70-х и советский рок 80-х годов. Любимые русские поэты – Тютчев, Блок, Николай Рубцов, Константин Симонов и Георгий Иванов; среди зарубежных выделяет Жака Превера, Роберта Бернса, Шарля Бодлера, а также поэзию Древнего Китая и Японии. В числе любимых прозаиков Гоголь, Тургенев, Чехов, Бунин, Довлатов, Борис Шергин, Юрий Коваль, Василий Шукшин, из зарубежных выделяет О'Генри, Рэя Брэдбери, Пэлема Вудхауса и некоторых других.
Дорога к «Недопеску»
Второго августа исполнилось ровно четверть века с того дня, как ушел от нас писатель, самый взрослый из детских и самый детский из взрослых – Юрий Коваль.
Какой была первая книга, которую я у него прочитал? К стыду своему, не помню: точно знаю, что брал еще в средней школе книгу «Недопесок», но через несколько дней вернул – то ли не заинтересовался сюжетом, то ли еще что, но почти ничего из нее не запомнил.
Прошел Коваль мимо меня и в два предыдущих периода, совпавших с получением высшего образования, когда я глотал все подряд, от русской классики и поэзии до эзотерики и философии. Помнится разве что мультфильм по повести «Приключения Васи Куролесова» да мультфильмы по сказкам Бориса Шергина и Степана Писахова – как я с изумлением узнал чуть позднее, сценарии для них писал все тот же Коваль.
И все же однажды я почти случайно купил его сборник «От девяти до девяноста» с теми же «Недопеском», «Куролесовым» и повестью «Самая легкая лодка в мире». Но все же чего-то не хватало, словно какой-то осколок мозаики не становился на место.
Одним из таких осколков стала «Ковалиная книга» – сборник воспоминаний и интервью самого Коваля, купленный тоже почти случайно за какие-то копейки в магазине недалеко от Курского вокзала. Бывает так, что по-настоящему знакомишься с писателем, полюбив в нем человека – и именно после книги, в которой о Ковале рассказывают Юлий Ким, Эдуард Успенский, Марина Бородицкая, Юрий Норштейн, Леонид Носырев, в моей голове что-то словно щелкнуло. И пошло-поехало: чудесные «Полынные сказки», трилогия о Васе Куролесове, купленная перед занятиями по криминалистике, раблезианский «Суер-выер», лирические рассказы из книги «Кепка с карасями» – все они теперь по праву занимают место на моей полке.
И все же словно чего-то недоставало, словно упущено было что-то…
В 2018 году издательство «АиБ», впервые после долгого перерыва выпустившее целиком всю трилогию о Васе Куролесове, обратило свой благосклонный взор и на так и не прочитанного мною в детстве «Недопеска». С тех пор я, конечно, его прочитал, но все же не мог до конца понять, чем именно эта повесть пленила таких интеллектуалов, как Арсений Тарковский и Белла Ахмадуллина, говорят, она даже придумала особый тембр голоса, которым, как считала, должен был говорить недопесок.
И вот у меня в руках новая книга – текст повести, комментарии к ней и чудесные, по-хорошему «детские» иллюстрации Евгении Двоскиной. Говорят, что из книг с картинками вырастают чуть ли не в отрочестве, но именно здесь у меня словно открылись глаза – как будто не хватало чего-то еще в дополнение к забавному, то лиричному, то смешному произведению Коваля. Как я мог пройти мимо него в детстве? Вероятно, есть такие детские книги, всю прелесть которых понимаешь не только и не столько в детском, сколько во взрослом возрасте.
Алёна Кубарева
Великий сердцеед
В шестом классе учительница русского и литературы все уши прожужжала нам Тыняновским «Кюхлей». В знак протеста я взяла эту книгу, только когда стала взрослой. Какое же меня ждало разочарование! Плоский, примитивный слог. Школьное – в плохом смысле – изложение истории жизни поэта…
Знаю, многие возразят мне: Юрий Тынянов – образцовый пушкинист, опытный рассказчик, знал ту эпоху, как свои пять пальцев и проч. Но я-то уже к тому времени познакомилась с великолепным (лучшим из того, что читала!) образцом эпистолярного жанра – письмами ближайшего друга, Ивана Ивановича Пущина…
Как жалко, что он не был писателем! Вернее, был, но, насколько явствует из его писем, не считал себя таковым. Друзья-то знали о его необыкновенном даре! Ещё бы!.. Долго уговаривали написать воспоминания об Александре Сергеевиче! Но Пущин отказывался – мол, не умею, не знаю, да и что, собственно, рассказать? Кокетка в мужском обличье! Великий сердцеед!..
В конце концов, Пущин смилостивился. Написал – увы, уступающие письмам – воспоминания о Лицее. Внимания Пушкину там, правда, уделено немного. Зато ярко и красочно рассказывается о маньяке, промышлявшем в лицейском саду… По этому эпизоду (уверена, он был одним из источников) даже снят фильм – «1814», вышел на экраны в 2007 году. Не смотрела его полностью, только мельком – боялась, авторы много напридумывали. Но как-нибудь обязательно посмотрю…
Мне больше всего запомнились письма, где Пущин делился впечатлениями от посещения Пушкина в Михайловском. Там примерно следующее.
Пущин входит в заснеженный дом. Посреди комнаты – светец с лучинами. Горит неярко, но уютно. Вокруг – девушки-работницы с вышиваньем. Поют. И меж ними – одно хорошенькое личико… (у Пущина в письмах друзьям есть даже кое-какой намёк на округлый животик). Рядом – сияющий Пушкин.
Пущин бросает лукавый взгляд на друга… Иван Иванович не объясняет, что хотел сказать. Можно лишь догадаться: «Ай да Француз! Востё-ор! Какую отхватил! Поздравля-аю!..»
Имён и фамилий у Пущина в письмах, разумеется, нет. Что-что, а компрометировать Иван Иванович никого не хотел, да и не умел, вероятно – слишком деликатен. Но мы-то понимаем, что «хорошенькое личико» – это, скорее всего, Ольга Калашникова, «крепостная любовь» Александра Сергеевича.
У самого Пущина подвигов на любовном фронте было ещё больше. Даже несмотря на повреждённую на Петровском заводе ногу (на каторге после Восстания), он был строен, в прекрасной физической форме. А кроме того – породист, отменно вежлив – с любым. Если и выходил из себя, на то были веские причины… Блондин со светлым лучистым взглядом до старости нравился большинству встречаемых им женщин…
В возрасте за сорок пленил красавицу неизвестного происхождения, которая родила Ивану Ивановичу горячо любимую дочь Аннушку… Как он восхищался её ранними успехами в игре на фортепиано (и это также описано в его посланиях)! А ведь достать инструмент в Ялуторовске (в ссылке) было делом нелёгким. Но Пущин с энтузиазмом взялся за дело – так же, как он бросался на помощь опальным товарищам-декабристам (пользуясь расположением не забывших его высокопоставленных друзей); так же, как помогал живущим в окрестностях сибирякам-крестьянам. И ему удалось! Удалось дать Аннушке приличное для дворянки образование (при том, что официально удочерил её много позже). Впрочем, Пущину почти всё удавалось…
Пущин был категорически против мезальянсов. И не раз пенял Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру – устно и письменно, в довольно едкой форме! – насчёт его женитьбы на мещанке Дросиде Ивановне Артеновой… Это, наверное, был тот самый – один из редчайших – случаев, когда Иван Иванович выходил из себя… Трудно сказать, что именно вызывало раздражение. То ли впрямь низкое происхождение невесты, то ли неподходящие характер и поведение. Однако… после смерти Вильгельма, улаживая дела вдовы Кюхельбекер, Пущин как-то нечаянно прижил с ней Ивана Ивановича-младшего, «купчика третьей гильдии», признанного им и устроенного позднее в Москве. Иван Иванович-младший умер в солидном возрасте в начале двадцатого века уже в Советской России от тифа или цинги.
Признаюсь, сама пережила с Иваном Ивановичем метафизический роман (верю: такие люди до конца не умирают, а в виде частиц духа витают где-то поблизости, периодически одаривая нас блеском своей мысли). Воображаемо общалась с ним на протяжении нескольких лет… Вела задушевные разговоры, рассказывая то, чего не поведала бы и самым близким. Иван Иванович только усмехался в ответ. Неоднократно спрашивала у него совета – по поводу какой-нибудь весьма глубокой, в кавычках, фразы, шутки, остроты. Робко поднимала глаза: а что же скажет Иван Иванович? Одобрит ли? И видела искрящиеся голубые глаза и улыбку, спрятанную в пшеничных усах. Понимала: плохо… Краснела, тушевалась, не знала, куда себя деть. Уныло думала: о, мне ещё расти и расти… Такой вот «строгий судия».
Несмотря на не слишком объёмное литературное наследие, Иван Иванович, на мой взгляд, всё-таки стоит в ряду заметных писателей России. Хотя, конечно, ему не удалось реализовать большую часть своих талантов. То ли из-за постоянной занятости – желания делать добро ближним и далёким, то ли по причине скромности и благородства. А возможно, Пущин придерживался одной из мудростей Омара Хайяма (тоже, кстати, «майского жука»):
Хоть и не ново, я напомню снова:Перед лицом и друга, и врагаТы – господин несказанного слова,А сказанного слова ты – слуга.Нина Шамарина
Когда тебя понимают…
Когда нам было предложено написать эссе о каком-нибудь писателе, родившимся в мае, я, не задумываясь, открыла биографию Набокова – мимо! Он родился в апреле! Ни секунды не колеблясь, посмотрела месяц рождения следующего любимого писателя – Венички Ерофеева: октябрь! Открыла Википедию и почти сразу наткнулась на биографию французского писателя Гектора Мало (дата рождения 20.05.1830). Может, не каждый помнит это имя, но его книгу «Без семьи», уверена, прочёл каждый человек моего поколения.
И этот очерк (или эссе), коих – ни того, ни другого – я писать не умею, не столько о Гекторе Мало, сколько о его романе, а ещё точнее, о моём отношении к последнему.
Дети читают те книги, до которых могут дотянуться рукой. Людмила Улицкая рассказывает, какие обширные подборки великолепных изданий она находила в шкафах своих бабушек, и читала их. В моём доме книг почти не было, но я очень много читала в детстве. Настолько много, что мне говорили, как говорят современным детям, оттаскивая их от компьютеров и телефонов – «глаза испортишь»; настолько много, что в деревенской библиотеке не оставалось не прочитанных мною книг.
В нашей библиотеке нельзя было, как и в любой другой, долго держать книги, но и сдавать их раньше времени не позволялось. «Быстро читаешь – ничего не поймёшь», – такому девизу следовала местная библиотекарь. О, эти мучительные два дня до следующего посещения библиотеки, когда взятая накануне книга прочитана запоем в первые же сутки! Ходили слухи, что, принимая книгу, могли спросить, каков сюжет, о каких событиях речь, и я, трепеща от такой перспективы, записывала в тетрадочку краткое содержание прочитанного. Мои старшие внуки в школе вынужденно вели читательский дневник. Пророс в обязанность страх послушных детей опростоволоситься? Правда, со мной такого никогда не случалось, никто со мной книг не обсуждал.
Несмотря на обилие и бессистемность моего чтения, три, может, четыре, книги из того периода стоят особняком: книга Осеевой «Динка», «Катя и крокодил» неизвестного мне автора и роман Мало «Без семьи». Почему именно они?
Прежде, чем писать о романе «Без семьи» (особенном даже из этого малого ряда) я решила его перечитать.
Приступила с опаской: не исчезнет ли чувство восторга от текста, над которым я рыдала, прочитав взахлёб, не отрываясь и, подчас, не понимая, где я нахожусь: дома, свернувшись клубочком на соломенном матраце моей металлической кроватки, придвинутой к печке, или бреду по пыльной дороге с бродячими артистами; замерзаю с ними в шалаше, слушая, как воют рядом волки; корчусь в старом забое затопленной шахты, веря, что нас спасут. Сохранится ли трепет, не пропадёт ли очарование? Забегая вперёд скажу, что язык, стиль изложения мне не понравился, но теперь-то я знаю, как сильно зависит этот стиль от переводчика, посему судить о языке Гектора Мало не берусь.
Электронный вариант я скачала в приложении «Книжная лавка». Удивительно, но и маленькая картиночка-обложка («аватарка» книжки») та же: на бледно-голубом фоне карандашный рисунок подростка в шапочке с пером, на плече – арфа. Это Реми – главный герой романа «Без семьи». Не буду ломать копья в споре о том, что лучше – бумажный носитель или электронный, но держа планшет с удобным шрифтом, тактильно вспоминала (если существует осязательная память) картонный переплёт, матерчатый корешок, посеревшие страницы старой «версии» романа.
Восьмилетний Реми живёт в небольшой деревушке Франции с матушкой Барберен, которую он считает своей матерью. Её муж, оставшись калекой и потеряв работу в Париже, не собирался кормить приёмного сына и продал мальчика бродячему артисту Виталису. Труппа Виталиса, кроме него самого, состояла исключительно из животных: собак и обезьянки. Впоследствии животные погибают один за другим, умирает и Виталис. С Реми остаётся только пудель Капи, и сбежавший из приюта болезненный мальчик Маттиа.
Конечно, всё заканчивается в книге хорошо: и настоящую семью Реми находит, и с матушкой Барберен встречается вновь, и талантливый Маттиа становится знаменитым музыкантом.
Гектор Мало написал это произведение в 1878 году, и оно стало классической детской книгой, включённой в школьную программу для обязательного чтения. В СССР эта книга не входила, насколько я помню, даже в программу внеклассного чтения, хотя, повторюсь, книжка читалась, переходила из рук в руки, о чём явственно говорил её потрёпанный вид.
Чем подкупала эта книга? Чем она зацепила меня? Тем, что мальчик Реми – великодушный, мудрый, душевно щедрый? Или приключениями, тяготами пёстрого быта, насыщенностью и динамикой повествования?
Теперь, перечитав книгу совсем не в том возрасте, для которого написал её Гектор Мало, я задумалась: что первично? Я выбирала такого рода литературу, потому что сама в детстве была такой – доверчивой, наивной, доброй? Или я стала такой, благодаря этой книге?
Вероятно, придётся признать, что первое. Иначе, как просто можно устроить социум! Подбирай «правильные» книги, предлагай их детям с их неокрепшим и несформировавшимся характером, с неустоявшимися мировоззрениями, и дело в шляпе! Хотя…мне одной кажется, что это попахивает фашизмом, и это мы уже проходили? И проходим, и в этом живём.
Мне несказанно повезло. В «Книжной лавке», помимо текста романа приведено предисловие к советскому изданию. Не откажу себе в удовольствии процитировать, хотя это отступление от мысли моей публикации. Поверьте, вам понравится тоже!
«Г. Мало показывает, что в обществе, в котором живут Реми и его друзья, всем управляют деньги. Жажда наживы толкает людей на чудовищные преступления…
Многое в повести изобличает пороки капиталистической системы, характеризует тяжёлую жизнь народа. Невыносимы условия труда шахтёров, зыбко и непрочно благополучие простых людей, живущих своим трудом…»
Как вам?
Далее непосредственно из текста: «Десять лет тому назад Акен взял в аренду этот сад и выстроил дом. Тот, кто сдал этот участок в аренду, дал также ему взаймы денег на покупку необходимого инвентаря и оборудования. Акен был обязан выплатить долг в течение пятнадцати лет. До сих пор, благодаря усердной работе и экономии, он регулярно вносил платежи. Кредитор между тем только и ждал задержки платежа, чтобы отобрать у него и участок, и дом, и инвентарь, конечно, оставив себе погашенный за десять лет долг».
Наивные советские дети узнавали об ипотеке таким причудливым образом!
Но, вернусь к самой себе заданной теме: почему именно «Без семьи»? Вновь и вновь задаюсь вопросом и не нахожу ответа. Приключения? Но «Три мушкетёра» и «Всадник без головы», например, изобилуют таковыми в не меньшей мере, а «Мушкетёров» я, пожалуй, и не читала. Тяжкие испытания и невзгоды? Разве это может привлечь внимание ребёнка, подростка?
Одиночество? Вот, вероятный ответ. Во всех трёх любимых книгах детства с высоты прожитого я вижу одиночество главного героя или героини (да-да, даже в смешной книжке «Катя и крокодил!») и страстное желание найти близкого человека, где – близкого по духу, где – близкого по крови, подразумевая априори найти в нём едино-мыслие, едино-устремление, едино-чувствие. Теперь-то я знаю, что это не так: и родственник может быть чужим. И встретив взрослой своего отца, не ощущаю к нему ни любви, ни привязанности.
«Счастье – это когда тебя понимают», – помните сочинение Гены Шестопала? И хотя, как оказалось, он процитировал Конфуция, и вырванная из контекста цитата приобрела другой смысл, именно этот кусок фразы объясняет для меня сегодняшней почему именно этот роман «Без семьи» вкупе с «Динкой» стал самой главной книгой детства.
Я не просто читала про Реми его жизнь, я ассоциировала себя с ним: я не думала о деньгах, как и он, довольствуясь самым необходимым, я, как и он, могла ужинать лишь картошкой с солью и любила блины; я переносила на него свою страшную тоску по родственной душе, я переживала горечь его одиночества, как свою. И не ведая о Конфуции, формулировала свой постулат о счастье: «Счастье, когда рядом тот, кто тебя понимает».
Шелками писано. Отзывы о публикациях наших авторов
Алёна Кубарева
Книга, которую мы ждали
Отзыв на роман В.Славянина «Время незамеченных людей»Я прочитала это замечательное произведение дважды. И во второй раз оно произвело на меня приятное впечатление. А в первый – просто ошеломило… Перед нами – явление. Роман-не-однодневка. Иными словами – почти классика. Почти – потому что решающее слово, конечно, за будущими поколениями. Надеюсь, они по достоинству оценят эту книгу.
Удивительно, что появилась она в то время, когда, казалось бы, всё уже написано. Некоторые острые умы утверждают: в век повальной грамотности и всеобщей жажды «оставить свой гусиный след» нет и не будет Толстых, Достоевских и Шолоховых. Но Виктор Славянин с лёгкостью (мы-то понимаем, какой труд за этим стоит) опровергает данную «истину». Большим писателям место в любую эпоху. И Славянин, безусловно, относится к ним.
Автор «Времени незамеченных людей» не пытается возвыситься над читателем. Вернее, так: автор относится к читателям, как мне показалось, несколько свысока, но лишь потому, что на этой позиции стоит главный герой первой части – Никифор Корнеевич Беспалый, человек зрелый, повидавший войну, изведавший цену человеческой «благодарности». Гордыня, или, лучше сказать, периодически возникающая, хоть и соседствующая с сомнениями, гордынька – пожалуй, его единственный грех. Автор хотя и говорит от третьего лица, но мы понимаем – он разделяет точку зрения своего героя (или всё-таки герой перенимает черты характера автора?). Возможно, в том числе благодаря этому – впечатление, будто автор сам видел то, о чём говорит.
Никифор Корнеевич, при всех своих странностях (он – чрезмерно хозяйственный), вызывает безусловное приятие, сочувствие и сопереживание. Хочется быть таким же сильным – словом и делом, иметь такое же прочное кредо, стойкость, не позволяющую идти на поводу у предрассудков эпохи. Беспалый истинно положительный герой – такой, какого нам не хватает в действительности и современной литературе. Для сравнения можно взять, например, роман З. Прилепина «Обитель», герой которого – Артём – мне несимпатичен изначально. Годится ли отцеубийца по якобы извиняющим мотивам (защищал оскорблённые чувства матери, а по сути – свои собственные) в образцы для подражания? Дальнейшее поведение – беспринципность, слабость, неблагодарность – не способно его реабилитировать. Бесконечные взлёты и падения этого «пикаро» где-то с середины повествования вызывают тоску… Один из читателей, в принципе, хорошо относящийся к творчеству Прилепина, признался, что, изнывая в ожидании окончания книги, постоянно желал главному герою смерти.
Совершенно иное отношение – к Никифору Корнеевичу. Его смерти никто, думаю, из читателей не жаждет. Напротив: кажется, он будет жить вечно. И этого хочется! Поэтому гибель Беспалого – скорая, может быть, даже скомканная, вызывает ощущение внезапности, ненужности – нам… Обухом по голове. Странно и безумно всё на свете. Мы чувствуем горечь утраты, будто Никифор Корнеевич – близкий нам человек.
Кончина Никифора сопряжена с подвигом – наказанием насильника молодой девушки. И это роднит Беспалого с настоящими героями плутовских и рыцарских романов. Да, он рыцарь – почти без страха и упрёка.
Отдельного упоминания заслуживает язык романа В. Славянина. Нет вычурности – он прост и понятен. Автор не выступает в роли стилизатора-сказителя, не пытается нарочито ритмизировать и «музыкализировать» текст. Благозвучие при множестве диалектизмов, не характерных для, например, средней полосы России, на мой взгляд, – высший пилотаж.
Вторая часть «Незамеченных людей» несколько слабее. Высокомерия по отношению к читателям здесь – больше, а героизма – меньше… И читатель, и главные лица чувствуют: не хватает Корнеевича. С ним – просто. Он бы сразу расставил всё по местам, определил, где чёрное, где белое, научил уму-разуму. А так… Кажется, автор сам – в растерянности, не знает, как расценивать быт в оккупации – то ли как жизнь, то ли как существование. Хорошо ли сделали персонажи, что якобы не обратили внимание, под кем сидят? Хорошо ли, что стараются не замечать немцев и продолжают жить, «как обычно»?
Михаил Зощенко любил цитировать М. Горького, что каждый человек обязан написать историю своей жизни. С этой точки зрения великолепно, что у нас есть такая книга, как «Время незамеченных людей». Да и с точки зрения художественности, и правды она, как уже упоминалось, даст фору многим.
Но главное, что есть в этом романе – любовь. В широком смысле – к истории своей семьи, страны, вообще к жизни. Напрасно, мне думается, говорят, что главный объект внимания литератора – язык. Такое мнение, в частности, встречала на страницах журнала «Сибирские огни». Якобы автор не должен излагать правду или даже вымысел, а обязан, прежде всего, работать со словом. Но язык сам по себе едва ли привлечёт широкого читателя, каким бы необыкновенным он ни был. Вспомним футуристов начала двадцатого века. Недостаточно «зазинзиверить» что-нибудь этакое. Для поиска – да, но не более того. Язык – всего лишь средство, инструмент для выражения чувств, мыслей, эмоций. Для воздействия на умы и сердца. Да, он требует настройки – для лучшего звучания. И в этом отношении роман В.П. Славянина – также образец. Конечно, не для слепого подражания, а вдумчивого осмысления и анализа.
Хотелось бы, чтобы автор раскрыл в третьей части романа своё отношение к жизни украинцев в оккупации. Описал бы все свои сомнения, переживания. То, что ему говорили в школе, и то, что думали по этому поводу его близкие. Внутренняя жизнь родившегося в страшном 1942 году «янгола» вполне может стать главной изюминкой третьей части. Но, конечно, решение – за автором. А мы будем ждать.
Всё сбудется!
Остаток вчерашнего вечера и часть ночи провела за чтением книги Татьяны Медиевской «Всё сбудется». И не пожалела! Общее впечатление: увлекательно, познавательно, позитивно. Итог: хорошее настроение и спокойный сон.
Эта книга Татьяны Юрьевны чем-то напоминает сундук с приданым хитрой невесты. Сверху – что попроще и побанальнее – для любопытных и завистливых соседок. Сунули длинные носы, поводили: «А чёй-то, Глашк, у тебя тут так бедно-то, а?» Глашка же, скромно опустив глазки долу: «И-и-и, времяна-то нынче какия-а-а!»
А вот ближе к донышку – только для глаз любимого мужа и его семьи – настоящие сокровища: золото, парча и бриллианты.
Обычно авторы ставят в начало книги что получше – тексты-лауреаты конкурсов, произведения, одобренные редакциями толстых литжурналов, а вот дальше – что останется. Татьяна Юрьевна выстроила свою книгу наоборот – верю, что это спецприманка: подлинные чудеса откроются только тому, кто не поленится дойти до конца…
Рассказ «Роксана», признаюсь, дочитала только до фразы: «Я с удовольствием всё съела и потребовала ещё». Общие слова, за которыми ничего нет. Остальное быстренько пробежала глазами. Не поверила. Ни женщины, ни собаки. Но вот удивительно: этот текст вовсе не отвратил меня от дальнейшего знакомства! И моё читательское терпение оказалось вознаграждено. Чудесный рассказ «Цирковая лошадь» – трогательный, нежный, по-хорошему грустный…

