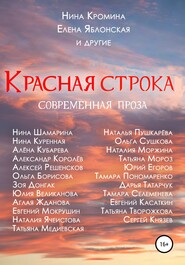 Полная версия
Полная версияКрасная строка
Когда бы и с кем Максимилиан ни знакомился, говорил просто: «Макс Волошин». Макс. Находясь один на один с его творчеством, я видела, чувствовала, как сильно его «Я», настоящее осознание неизменно. Где и когда он отбросил ум с искаженными взглядами на мир, проследить не получилось, не потому ли что этого не было. У гения своя Вселенная. Такие люди, как Максимилиан Волошин – подарок небес.
Пока писала текст, созрел мини цикл стихов. Хочу поделиться.
I Краткосрочной жене, кратковременной,Как и в память ее поместить?Но застряла в оборванном стремениНожка правая. Мне ли судить?Он не ждал, что вернется. Любви ееОн не видел, не понял, не знал.Что-то чуждое там, в забытьи ее,Но, как рыцарь, ее поддержал.А другой не дождался – не суженный,Улетели на ветер слова.Въехал, вжился в свой быт отутюженныйЛишь она отлучилась едва.Два распутья у моря наметилисьИ одно пролегло по воде… 2 Вокруг музея рынок. Жизнь кипит.Народно. Шум смешался с шумом моря.Полуденное солнце – динамит —Из тех картин далекого террора.Из тех картин, что врезались в изломГоры. У моря высятся фрегатом.Ищу тропу, где Макс ходил пешком,Потом ушел из дома безвозвратно. 3 И «не вернулся на простор».Остался там, в горах.А ветер. Ветер – репортерБывал во всех местах.Подбросит новость в тишину,Покружит и уйдет.Здесь наберет себе длинуИ в путь. И где живет?Елена Яблонская

Елена Евгеньевна Яблонская родилась в Ялте в 1959 г. Окончила Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова (1982 г.), Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького (2012 г.) и аспирантуру Литературного института им. А.М. Горького по кафедре русской классической литературы и славистики (2016 г.). Автор 25 статей и книги о творчестве А.П. Чехова. Кандидат химических наук. Член Союза писателей России. Автор семи книг прозы. Автор многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Победитель и лауреат ряда литературных конкурсов и премий. Живёт в г. Черноголовке Московской области.
На золотом крыльце советской литературы
Закат советской эпохи. Год этак 1988. Аспирантское общежитие в подмосковном академгородке Черноголовке. По общежитским комнатам гуляет книжка в тонкой обложке. Сборник из десяти-пятнадцати рассказов называется «На золотом крыльце сидели…» Автор – Татьяна Толстая. Эта книжечка уже зачитана нами, аспирантами и молодыми учёными, до дыр, как и сборник стихотворений Олега Чухонцева, как книга Иосифа Бродского и его же перепечатанные на машинке стихи, как проза Лимонова, как что-то ещё… Перестройка! Читаем всё! И это «всё» (за немногими исключениями типа каких-нибудь конъюнктурных и проходных «Детей Арбата») – высококачественная, близкая к гениальности литература, что сейчас кажется невозможным, немыслимым, непостижимым, недостижимым… Один из рассказов сборника Т. Толстой, «Петерс», мне знаком, я уже успела прочитать его в одном из «толстых» журналов (теперь можно даже восстановить в каком именно: в «Новом мире» за 1986 год). Все значимые журналы – «Новый мир», «Москва», «Юность», «Наш современник», «Октябрь» – мы выписываем лабораториями (один сотрудник – «Новый мир», другой – «Москву» и т. д.), меняемся ими, зачитываем до дыр, а потом горячо обсуждаем. Жить весело! Впрочем, рассказы Т. Толстой мы не обсуждали, только читали и перечитывали, затаив дыхание. Не очень-то они весёлые и не поддаются ни обсуждению, ни пересказу, потому что неуловимы как сама жизнь, наша жизнь. Они – о нас, о советских неудачниках, вернее, о людях, считающих, что их жизнь не удалась, а на самом-то деле: «…как бы удивились и, быть может, даже обрадовались все эти люди, если бы нашлись разум и язык, которые сумели бы доказать им, что их жизнь так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая». Это из рассказа А. П. Чехова «Перекати-поле». Герои Т. Толстой – чеховские герои. Вот Петерс из одноимённого рассказа. Типичный неудачник, нелепый библиотекарь с «плоскими ступнями и по-женски просторным животом», «дундук какой-то эндокринологический», чьё детство, юность и всю последующую жизнь «бабушка съела с манной кашей». Жаль его до слёз. Только вот толкает старый Петерс оконную раму и – «…ничего не желая, ни о чем не жалея, Петерс благодарно улыбнулся жизни – бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой – прекрасной, прекрасной, прекрасной». Ещё более пронзителен рассказ «Соня» – о глуповатой, на первый взгляд, такой же, как Петерс, нелепой и трогательной старой деве, чья короткая жизнь оказалась исполненной высокого смысла и самозабвенной жертвенной любви, а окончилась – подвигом. Или переводчик Симеонов (рассказ «Река Оккервиль») – «безумный юноша с помраченным от перевода дурных книг сознанием», влюблённый в давно, как он думал, почившую, знаменитую когда-то исполнительницу романсов. Как же близок стал мне этот рыцарь печального образа через какие-то три-четыре года, когда пришлось в «помраченном сознании» с утра до ночи, без праздников, выходных и отпусков переводить дурные статьи, чтобы семья не погибла с голоду – дорогую цену заплатили мы за возможность читать всё подряд, без строгого надзора канувшего в Лету Главлита и прочих цензурирующих инстанций. Или учительница географии Наташа из рассказа тоже со сказочно-«считалочным» названием: «Вышел месяц из тумана». Сейчас думаешь: а ведь всё-таки счастливую жизнь прожила училка, которую «никто не приходил любить», в унизительно-неопрятной, но такой душевно-уютной ленинградской коммуналочке, с единственной в жизни поездкой в «сладкую, мягкую, русскую Москву», где нельзя было не влюбиться – тоже раз в жизни! – «в русого, бородатого, замечательного Петра Петровича из города Изюм, приехавшего в Москву за покупками». Как и старый Петерс, Наташа подходит к окну и слушает «гул идущей жизни», «бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой – прекрасной, прекрасной, прекрасной…» Но не все герои Толстой такие милые и беспомощные. Многие пытаются урвать от жизни им причитающееся, а если повезёт, то и больше, как, например, Римма из рассказа «Огонь и пыль» или Зоя («Охота на мамонта»). У кого-то и получается, как у Нины (рассказ «Поэт и муза»): «Нина была прекрасная, обычная женщина, врач и, безусловно, заслужила, как и все, свое право на счастье», ухойдокала мужа-поэта. Сначала, похоронив мужа, очень расстраивалась, «но потом ничего, успокоилась, после того как одна женщина, тоже очень симпатичная и у которой тоже муж умер, рассказала ей, что она, например, в общем-то, даже довольна. Дело в том, что у этой женщины двухкомнатная квартира, а она всегда хотела одну комнату оформить в русском стиле, так, чтобы посредине только стол и больше ничего, а по бокам все лавки, лавки, совсем простые, неструганые. И стены все увешать всякими там лаптями, иконами, серпами, прялками – ну, всем таким. И вот теперь, когда у нее одна комната освободилась, эта женщина будто так и сделала, и это у нее столовая, и гости очень хвалят». Ничего не напоминает? Правильно, рассказ Чехова «Попрыгунья»: «Ольге Ивановне было 22 года, Дымову 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий… В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе…» Рассказ Т. Толстой – зеркальное отражение «Попрыгуньи». У Чехова влюблённая в искусство мещанка ухойдокала мужа-врача, у Толстой мещанка-врач убила мужа-поэта. О Чехове, думается мне, главном писателе Татьяны Толстой, чуть позже. А пока – откуда пришли эти чудесные, почти чеховские рассказы и куда безвозвратно канули.
Пришли они, несомненно, из советских времён. Появились случайно. Филолог Толстая работала корректором и редактором, пробовала себя в качестве литературного критика, о писательстве, кажется, не помышляла. Из Википедии: «По собственному признанию, начать писать её заставила перенесённая операция на глазах. "Это теперь после коррекции лазером повязку снимают через пару дней, а тогда пришлось лежать с повязкой целый месяц. А так как читать было нельзя, в голове начали рождаться сюжеты первых рассказов"». Всего в период с 1982 по 1987 год ею написано около двадцати рассказов. После издания сборника «На золотом крыльце сидели…» (1987 г.) Татьяна Толстая была принята в члены Союза писателей СССР. А потом всё закончилось, потому что наступил конец советской эпохи. Все сюжеты и герои Толстой – из советского прошлого и вне его немыслимы. Писателя Татьяны Толстой без ненавидимой и уже 30 лет хулимой ею страны Советов попросту не существует.
То, что Толстая писала и пишет после заката советской власти, можно назвать литературой только с большими оговорками. Скорее, непринуждённый трёп в чате, какие-то, с позволения сказать, эссеюшки о том, как автор прикупила себе в Нью-Йорке кофточку (это критик «Литературной газеты» иронизировал) или про то, как в той же Америке запрещают свободному человеку курить в общественных местах. Мило, легко, остроумно. Но не более того. Роман «Кысь» (2000 г.) примерно того же пошиба. Постмодернистская антиутопия о России после ядерного взрыва с хвостатыми, страстно любящими чтение мутантами и непрекращающимися спорами наших почвенников и либералов. Остроумно, иногда даже смешно, но фельетонно и кажется повторением чего-то много раз читанного. В 2002 г. выходит сборник рассказов Т. Толстой «Ночь», состоящий из 18 старых, советских рассказов и двух сравнительно новых эссе: «Сюжет» (1991 г.) и «Йорик» (1999 г.). Впрочем, «Сюжет» с оговорками можно считать и рассказом, только не классическим, а типично постмодернистским и весьма в этом смысле удачным. Подобно тому, как в январе 1900 г. после просмотра на сцене Московского Художественного театра пьесы «Дядя Ваня» и чтения рассказа «Дама с собачкой» Горький написал из Нижнего Новгорода Чехову: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро – насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время – факт! Дальше Вас – никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После незначительного Вашего рассказа – всё кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И – главное – всё кажется не простым, т. е. не правдивым. Это – верно… Да, так вот, – реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к чорту!», подобно убийству Чеховым реализма, Татьяна Толстая рассказом «Сюжет» убила наш постмодернизм ещё в 1991 году. Блестящий рассказ! Остроумнейший! Выживший после ранения на дуэли Пушкин в 1880 г. едет в Симбирск за материалами по истории Пугачевского бунта. Там его дразнит десятилетний Володя Ульянов. Разгневанный старый арап бьёт мальчонку по голове своей с юности знаменитой тяжёлой палкой. Как выяснится после смерти Ильича, в результате удара у него атрофировалась половина мозга, благодаря чему Владимир Ильич станет яростным монархистом и министром внутренних дел царской России. После его смерти в 1937 г. его сменит на этом ответственном посту некто «господин Джугашвили». Надо отметить, что фантастическим рассказом «Сюжет» Толстая убила не только русский постмодернизм, но и свою лютую ненависть к Ленину. «Господи, прости мне, как же я его ненавижу!» – признаётся в одном из своих эссеюшек внучка красного графа А.Н. Толстого, которой «советская власть дала всё и даже больше», чем многим из нас, чем мне, например. Но я очень рада за Татьяну Никитичну: после «Сюжета» Ленина ненавидеть невозможно, смех убивает ненависть, и я тоже молюсь, чтобы Господь её простил… Заключает сборник «Ночь» эссе «Йорик» (1999 г.). И это уже типичное эссе. О бабушке Т. Толстой Наталии Крандиевской, тоже замечательной писательнице. И, кажется, больше ни одного рассказа после 1991 года Татьяна Толстая не написала…
Сразу после «Ночи» (2002 г.) выходит сборник «День» (2003 г.). Это уже всё типичные эссе, злободневные, на тему дня, остроумные, но сейчас их даже как-то странно читать. Впрочем, открывающее сборник эссе «Квадрат», развенчивающее «Чёрный квадрат» Малевича, пожалуй, не утратило актуальности даже после блистательного, практически на ту же тему романа М. Кантора «Учебник рисования». Но странно и даже неинтересно читать сейчас о диких ценах в магазинах девяностых годов на всякую дребедень в эссе «Ложка для картоф.». И ещё более дико и странно – о таких непохожих персонажах с совсем разными судьбами как Б.А. Березовский и Ю.А. Башмет в эссе «Отчёт о культе мещанства», где Т. Толстая, объединив олигарха и музыканта под кликухой «Абрамовичи» (только отчества у них и совпадают), клеймит обоих за мещанство. Нет, читать сейчас сборник «День» положительно невозможно, не классика это, однодневки… Автор и сама это прекрасно понимает, чай, не дура, и вкус, и стиль, и знания по литературе, бесплатно полученные при проклинаемой советской власти на филологическом факультете Ленинградского университета, у Татьяны Никитичны безупречные. Вот она и разбавляет каждый очередной сборник эссеюшек (например, «Девушка в цвету») старыми советскими рассказами, честно предупреждая в аннотации, что в сборник «наряду с новыми произведениями вошли рассказы прошлых лет». Ах, как же легко и весело, беспечально, беспечно, бездумно, безбедно сиделось нам на высоком крыльце золотой советской эпохи…
P.S. Несмотря на всё вышесказанное, к счастью, есть нечто, что когда-нибудь, надеюсь, позволит мне продолжить чтение моей любимой не постмодернистской, а советской писательницы Татьяны Толстой. Это нечто – Чехов. 27 февраля 2015 г. в книжном магазине «Москва» на Воздвиженке состоялась лекция Т.Н. Толстой о Чехове, в которой она высказала очень глубокие мысли о его творчестве, в частности, о рассказах «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Каштанка», «Дама с собачкой». В заключение лекции, отвечая на вопросы слушателей, Т. Н. Толстая сказала, что Чехова «обожает» и – мельком, мимоходом – что вроде бы планирует написать о нём книгу. Очень на это надеюсь и жду выхода книги с нетерпением!
Дух седьмого этажа
Поэт Николай Заболоцкий, «один из крупнейших русских поэтов XX века, признанный классик отечественной литературы» (как написано в аннотации к сборнику Заболоцкий Н.А. «Меркнут знаки Зодиака: Стихотворения. Поэмы. Проза». М.: ЭКСМО-Пресс, 1998), родился 7 мая 1903 года. Странно, что в моём книжном шкафу стоит эта очень поздняя, по меркам моей жизни, книга. Ведь я знаю поэта Николая Заболоцкого давно, пожалуй, с детства, он умер, кстати, за год до моего рождения, в 1958 г. Откуда знаю? Наверное, встречала подборки его стихов в журналах, возможно, брала его книги в библиотеках… В самом деле, кто не слышал классического стихотворения «Некрасивая девочка»? Мне, между прочим, оно не нравилось, как-то раздражало. Да не «как-то», а именно то раздражало, что поэт вряд ли, думала я, так уж сочувствует некрасивой девочке (которая, к тому же, ещё двадцать раз «перерастёт» и годам к пятнадцати станет если не красавицей в общепринятом смысле, то весьма пикантной барышней, ведь всё только от характера и самооценки зависит!), она – лишь повод для философского размышления: «А если это так, то что есть красота // И почему её обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота, // Или огонь, мерцающий в сосуде?» И разве, в свою очередь размышляла я, не ведает пожилой мужчина, что женская красота или некрасивость – миф, блеф? «Не родись красивой, а родись счастливой» – вот горькая правда жизни. И того хуже – мужчины любят не красивых и умных, а стервозных и хитрых, а женщины все равно почему-то завидуют красивым и неудачливым подругам… Когда-то я была довольно красивой, немного умной, абсолютно бесхитростной и, как следствие, несчастливой. Не нравились мне эти стихи. Впрочем, я легко прощала их поэту за блестящий перевод «Слова о полку Игореве», за великолепную поэму «Рубрук в Монголии»… И вот во второй половине восьмидесятых годов, в бытность мою молодым научным сотрудником, проживающим в аспирантском общежитии подмосковного академгородка Черноголовка, попадается мне книжечка стихов Заболоцкого с его ранними «Столбцами», стихотворениями 1926–1933 гг. В пору написания этого цикла Заболоцкому 25–30 лет. Как мне. И мне сразу нравится эта «отвязная», на грани фола, ироническая, сатирическая, «обэриутская» поэзия:
Здесь ночи ходят невпопад,Здесь от вина неузнаваем,Летает хохот попугаем.Здесь возле каменных излучинБегут любовники толпой,Один горяч, другой измучен,А третий книзу головой.Любовь стенает под листами,Она меняется местами,То подойдет, то отойдет…А музы любят круглый год…и т. д. (стихотворение «Белая ночь» из цикла «Городские столбцы»)Справка из Википедии: ОБЭРИУ́ – группа писателей и деятелей культуры, существовавшая в 1927 – начале 1930-х годов в Ленинграде. В группу входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Юрий Владимиров, Игорь Бахтерев, Дойвбер Левин.
Кстати, Хармса и Введенского терпеть не могу, Вагинова пытаюсь читать – и никак, не получается, прочих не знаю. Уж извините.
Меня, тогда ровесницу поэта и, между прочим, маму четырёхлетнего сына, сразила молодая, циничная, весёлая жестокость:
…Вижу – ты, по воле мужаС животом, подобным тазу,Ходишь, зла и неуклюжа,И подходишь к тарантасу,В тарантасе тройка алыхЧернокудрых лошадей.Рядом дядя на цимбалахТешит праздничных людей.Гей, ямщик! С тобою мамаДа в селе высокий доктор.Полетела тройка прямоПо дороге очень мокрой.Мама стонет, дядя гонитДядя давит лошадей,И младенец, плача, тонетПосреди больших кровей.Пуповину отгрызалаМама зубом золотым.Тройка бешеная стала,Коренник упал. Как дым… и т. д. (стихотворение «На даче»)И уж вне всяких возрастных, вкусовых пристрастий поистине брейгелевское великолепие тогдашних мясных и рыбных лавок, пекарен, рынков:
В уборе из цветов и крынокОткрыл ворота старый рынок.Здесь бабы толсты, словно кадки,Их шаль невиданной красы,И огурцы, как великаны,Прилежно плавают в воде.Сверкают саблями селедки,Их глазки маленькие кротки,Но вот, разрезаны ножом,Они свиваются ужом.И мясо, властью топора,Лежит, как красная дыра… («На рынке»)Наконец, после всего этого «нэпманского» великолепия мне попадается стихотворение «Бродячие музыканты»:
Закинув на спину трубу,Как бремя золотое,Он шел, в обиде на судьбу.За ним бежали двое.Один, сжимая скрипки тень,Горбун и шаромыжка,Скрипел и плакал целый день,Как потная подмышка…Довольно длинное, написанное в разгар «обэриутства», в 1928 году, и типичное для этого периода стихотворение. Жестокое остроумие обэриутов уже начинает приедаться, как вдруг я читаю заключительную строфу «Бродячих музыкантов», шибающую прямиком в сердце вселенской бесприютностью и щемящей горестной романтикой:
Певец был строен и суров.Он пел, трудясь, среди дворов,Средь выгребных высоких ямТрудился он, могуч и прям.Вокруг него система кошек,Система окон, ведер, дровВисела, темный мир размноживНа царства узкие дворов.Но что был двор? Он был трубою,Он был тоннелем в те края,Где был и я гоним судьбою,Где пропадала жизнь моя.Где сквозь мансардное окошкоПри лунном свете, вся дрожа,В глаза мои смотрела кошка,Как дух седьмого этажа.Ах, да ведь это же про меня и моих неприкаянных коллег-аспирантов, физиков, химиков, математиков… И я такая же бездомная беспризорница, хоть и с учёной уже степенью, хоть и с мужем, но живущим в другом городе (уже понятно, что нам придётся развестись), хоть и с сыном (он сейчас на воспитании у мамы, тоже в другом городе, и я дико по нему скучаю), и я гонима жестокой судьбой, и моя (то развесёлая общежитская, то тяжёлая трудовая жизнь в химической лаборатории) пропадает за полушку, эх, пропадает… По странному совпадению жила я на седьмом этаже общежития, десятиэтажной кирпичной башни. И смотрела вниз в узкий колодец двора, как в трубу, как в тоннель… Замечательный был наш седьмой этаж! Прибежав из институтов, мы принимались репетировать на этаже какие-то бесконечные КВНы и капустники, пели бесконечные же «каэспэшные» песни, отрабатывали па акробатического рок-н-ролла, устраивали друг другу (комната против комнаты) розыгрыши, обсуждали книги и журнальные публикации, наконец, просто болтали… Иногда и безобразно напивались. «Взбесившийся седьмой этаж» – не без зависти обращались к нам «пришельцы» с восьмого этажа, с десятого, прося принять в компанию… И было так горько, так мучительно сладко сознавать, что эта действительно пропадающая, неправильная, весёлая, нелепая, одновременно счастливая и неудавшаяся жизнь останется самым светлым, самым прекрасным воспоминанием юности. И вправду – не было в моей жизни счастливее проведённых в общежитии лет. А прослонялась я по московским и подмосковным общежитиям в общей сложности 20 лет! Четыре года в общежитии МИТХТ (Московского института тонкой химической технологии) на Студенческой, два года в построенном к олимпиаде (1980 г.) новом общежитии на Юго-Западе, семь лет в разных общежитиях Черноголовки и… Наверное, когда-то благословивший наш седьмой этаж поэт Заболоцкий побеспокоился и о том, чтобы те семь лет в аспирантском общежития не стали последними. В 2010 году я поступила в Литературный институт и, вместе с аспирантурой, провела в легендарном семиэтажном (!) общежитии на углу Добролюбова и Руставели ещё семь (!) незабываемых лет. В том числе и на седьмом (!) этаже.
Пришлось мне и ещё раз столкнуться со стихами Заболоцкого, что называется, вживую. Лет пятнадцать назад я была приглашена на день рождения одноклассника-полковника, преподавателя Академии Генерального штаба. Он там чуть ли не один был сорокапятилетний «настоящий полковник», остальные – генералы. И вот один из них вызвался спеть в мою честь. Запел известную песню на стихи Заболоцкого «Признание» (музыка М. Звездинского):
Зацелована, околдована,С ветром в поле когда-то обвенчана,Вся ты словно в оковы закована,Драгоценная моя женщина!Не веселая, не печальная,Словно с темного неба сошедшаяТы и песнь моя обручальная,И звезда моя сумасшедшая…Надо признать, пел он очень хорошо, но всё время порывался схватить меня за руку, – «я склонюсь над твоими коленями, // обниму их с неистовой силою…» – неотрывно и многозначительно смотрел в глаза, что меня крайне смущало… Мне, не привыкшей к столь деликатному штабистскому генеральскому обхождению, воспитанной на походных песнях под гитару и водочку, было как-то не по себе. И прекрасная песня показалась воплощением пошлости. В самом деле, лучше бы он «Можжевеловый куст» спел! Стихи Николая Заболоцкого, музыка барда Александра Суханова. Вот это по-нашему, по-«каэспэшному»:
Я увидел во сне можжевеловый куст,Я услышал вдали металлический хруст,Можжевеловых ягод услышал я звон,И во сне, в тишине мне понравился он…И ещё одна известная песня кажется мне низведенной на незаслуженно низкий уровень, а замечательные стихи Заболоцкого – испорченными. Мы все её знаем по фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман»:
Облетают последние маки,Журавли улетают, трубя,И природа в болезненном мракеНе похожа сама на себя…Между прочим, музыка великого Андрея Петрова – адекватна, конгениальна. Однако то ли соседство с простенькой «У природы нет плохой погоды» (слова Эльдара Рязанова), то ли явное переигрывание, гротескно-утомительное шпыняние зонтиком и бесконечное обливание водой актёров А. Фрейндлих и А. Мягкова принижает, умаляет, на мой вкус, и песню, и безусловно прекрасные стихи. Но, скорее всего, я неправа, слишком пристрастна, потому, должно быть, что со времён бесприютной моей юности сладко отравлена тёмным колодцем двора, мансардным окном и дрожащей при лунном свете кошкой: «Где был и я гоним судьбою, // Где пропадала жизнь моя…»
Удалась ли жизнь? Трудно сказать… Но дух седьмого этажа не оставил меня! Он и сейчас, когда я пишу эти строки, витает надо мной, а кот Стёпа, не мигая, внимательно смотрит мне в лицо зелёными, круглыми и чуть раскосыми, с узкими зрачками глазами…

