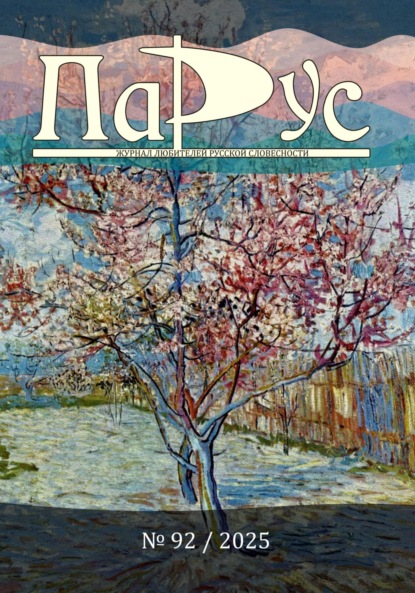
Полная версия:
Журнал «Парус» №92, 2025 г.
В этом саду, всматриваясь в безграничные дали или в капельку на цветке, ощущаешь наполненность красотой, радость и мудрость от осознания общих смыслов – всё, что тебя возвышает, собирает, вдохновляет на дерзкие свершения, на любовь, творчество и движение к неизведанным горизонтам.
Там нет страха и нет смерти – даже для тех, кто испытал эти состояния. Зато есть – чуткая внимательность к своей личной истине.
Там не всегда есть тропинки. Тогда их нужно прокладывать самому – по собственным маршрутам.
Где-то, в глубине сада, в беседке, можно найти ключ – спрятанный автором для самых настойчивых искателей. Это ключ к человеческой природе, к высоким вратам, открывающим пределы духа, к тайнам мира и сотворению Вселенных.
Не меньше!
Восхищает всегда то, что больше, шире, выше тебя самого – эта захватывающая дух полётная бесконечность свободы.
В какой-то момент ты вспоминаешь, что уже был когда-то в этом саду и написанное автором тебе знакомо. Кто писал эти строки? Не ты ли сам, читая живую книгу бытия, говорящую тебе пророчества тихим голосом молчания?
Дмитрий ИГНАТОВ
Что можно пожелать современному писателю?
Честно говоря, трудно мне давался ответ на этот вопрос. При всём современном обилии интересов, жанров, тем и т. д., надеяться найти для писателей что-то общее – затея, обречённая на провал. Не стоит забывать и о такой пресловутой, навязшей в зубах и свисающей с ушей вещи, как «персональная мотивация». Тут уж вообще всё для всех становится индивидуальным… Кто-то вдохновляется примерами классиков. Кто-то видит своими кумирами авторов современных бестселлеров. Кто-то воспринимает писательство исключительно как хобби. А кто-то видит в этом свою профессию. Один отправляется грызть гранит науки в литинституты и на филологические факультеты. Другой же начинает штурмовать писательские уступы и вершины самостоятельно. И это лишь небольшая часть всевозможных вариантов.
Что же тут можно пожелать, кроме банальных «удачи», «успехов», «идей»?.. Но я всё-таки попытаюсь добавить одно слово – не такое короткое и не такое простое – «понимание». Оно пригодится вам в любом случае. Чтобы вы ни делали – писали гениальный роман или просто забивали гвоздь. Независимо от везения, уровня мастерства, наличия времени и даже степени таланта – человек достигает результата, когда понимает, что и для чего делает.
Можно довольно долго рассуждать о вдохновении, о некой озаряющей искре, но в конечном итоге всегда оказывается, что каждая фраза, слово, даже буква появляются в вашем тексте не случайно. Их набор и последовательность ничем не лучше любого хаотического набора знаков, но эти – ваши. Их мог написать любой другой автор, но их написали вы. Почему? По внутренней логике повествования, по образу мыслей писателя, возможно, по воле непобедимых законов Вселенной. Так и рождается осознанное творчество.
Зачем? Для выражения ранее не выраженного смысла. Для высказывания ранее не высказанной мысли. Для удовлетворения здорового писательского тщеславия. Или для скромного заработка своим трудом на хлеб насущный. Может быть, ещё зачем-то? Я не знаю… Но у вас непременно будет свой ответ. И сама цель, и стремление к ней, и её достижение в конечном итоге появляется именно из такого понимания.
Андрей СТРОКОВ
Современным писателем быть невероятно легко: компьютерный редактор позволяет править тексты непринуждённо и быстро, а не подчищать буквы на бумаге лезвием «Нева», не говоря уже о переписывании гусиным пером. Интернет услужливо подбросит нужную рифму, синоним, перелопатит килотонны (если считать в бумаге) информации. Электронная почта мгновенно отправит рукопись редактору, оберегая от общения с бестолковым курьером вроде Фёдора Дунаевского. А на подходе Искусственный Интеллект, предсказанный, кстати, писателем. Помните у Станислава Лема: «Генька, грозный генератор, грубо грыз горох горстями»?
Современным писателем быть невероятно трудно. Все сюжеты исчерпаны, всё уже написано, да ещё как качественно написано! (Труднее, думаю, только композиторам: нот всего семь) Чем дальше в будущее, тем сложнее искать новые темы, стили, эпитеты. Поэтому время и усилия, сэкономленные на технической стороне творчества, необходимо направлять в сторону повышения качества текстов, оттачивания своего узнаваемого стиля.
Сосредоточиться нужно на удовольствии от самого процесса чтения, а не результата («Убийца – садовник?», «Выйдет ли замуж Кончита?» – вторично, главное, как это описано). Подкидывать читателю задачки, чтоб ему было интересно, читая книгу, одновременно держать включённым компьютер: заглянуть на географическую карту, где описаны места событий, проверить или пополнить знания о персонажах, архитектуре или природе. Вплоть до спортивного поиска «косяков», например, могло ли солнце светить в глаза героине, в то время и в том месте, где ей признавался в любви герой? То есть основная задача – возбуждать у читателя аппетит к чтению и повышению своего кругозора. А аппетит возбуждает только вкусное блюдо.
В этом ему помогут писатели прошлого, а значит, современный писатель должен непрерывно читать сам. Стоя на плечах титанов дотянуться до звёзд проще.
Отсюда вытекает главное предназначение современного писателя: умея легко пронзать пространство и время, он должен служить связующим звеном, цементом поколений.
Читая Пушкина, Пришвина или Шукшина, наш современник восторгается прошлыми временами и людьми, ностальгирует по тому, чего читатель сам не видел, но испытал виртуально. Поэтому второе предназначение писателя современного – заставить читателя будущего испытывать ностальгию по временам настоящим.
Задача облегчается тем, что наконец-то появилась возможность получить обратную связь с читателем, и эта возможность будет увеличиваться, и её нужно максимально использовать. А ведь совсем недавно это было осуществить не так просто – тем не менее, всегда очень важно:
Выйдя со стопкой своих стихов
На сцену к слушателям,
Читаю и смотрю из-под очков:
Слушают ли?
(Анатолий Строков, примерно 1975 год)
Ну и вопрос «что же такое книга?» сейчас весьма актуален. Это бумажный томик, файл в «читалке» или ссылка в интернете? Тот, кто думает, что «бумага» умерла – тот жестоко ошибается. Точно так же ошибались те, кто хоронил «винил» при появлении звукового формата CD.
Своё отношение к «инкунабуле» я уже высказывал на страницах «Паруса». Кратко – том имеет душу и хранит память о тех людях, кто его читал или просто касался. Поэтому современному писателю, отдавая должное самым продвинутым технологиям, нельзя манкировать возможностью вдохнуть душу в свои произведения.
Однажды, около станции варп-метро в Кисловодске, бодрый дедок с зелёным хаером, одетый в драные джинсы, потёртую косуху и футболку с принтом AC/DC, разложит на бронепластике мостовой развал потрёпанных книжек, и среди них будет моя1, и девочка с глазами Алисы Селезнёвой, пролетая мимо на квантовом глайдере, купит томик за сущие копейки – 10 цифровых рублей (включая НДС), и будет рада покупке – значит, не зря я не спал я ночами!
1Предсказание начало сбываться: первая бумажная книга уже есть – «Не только морские рассказы», а на Ридеро есть кнопка для печати и последующих книг. До светлого будущего остался один шаг!
Георгий КУЛИШКИН
Современному автору, то есть и себе, желаю не угодничать перед нынешним спросом. Не успел сказать, как тут же захотелось возразить. А Дон Кихот? А Гулливер? А мушкетёры?..
А бессмертные детективы Фёдора Михайловича? А фэнтези Михаила Афанасьевича?..
Пожалуй, нет ни одного великого, кто не сумел бы угадать, что увлечёт, захватит, поразит наповал читателя. И пока такой догадки не случалось, он, всё такой же одарённый и такой же умеющий, оставался средним, «одним из…». То есть, никем.
Ярчайший пример тому – Набоков. Который стал Набоковым только, когда, как фомкой по башке, оглоушил читателя «Лолитой».
Итак, несколько усомнившись в первом своём замечании, всё-таки скажу, что есть спрос и спрос. Тому из них, что приземлён, практичен, корыстен – цена копейка. А вот тот, который озарение – поди-ка ухвати. Или выстрадай. Или вымоли у судьбы.
Этого вот и хочется пожелать каждому из нас.
Говорю о наивысшем, практически недостижимом, однако же единственно оправданном в нашем деле в качестве цели. Такое пожелание ответит и на вопрос – зачем писать?
И такой ориентир с лёгкостью отметает в сторону тот неоспоримый факт, что почти никому, кроме пишущих, не нужны теперь журналы и книги, что близкие с иронией поглядывают на нас, каторжно пашущих задарма.
Поделюсь ещё и одной из своих личных, отнюдь не заоблачных причин – «зачем». Мой отец умер, когда мне было двенадцать. И у меня не осталось ничего о нём, кроме семейных преданий и листочка затребованной официозом и составленной его рукой автобиографии. Поэтому книгу, которую считаю у себя главной, я посвятил внуку. Придёт время – он прочтёт. И узнает, что так хотел узнать я об отце, но так и не узнал.
Николай КРИЖАНОВСКИЙ
Первый тезис: «Слово равно делу». Надо быть честным перед собой, перед своим словом, перед своей жизнью и перед людьми. Сегодня появилась целая генерация писателей, которые вышли зарабатывать деньги, и им не важно, что они говорят, главное, чтобы это приносило деньги.
Никуда мы, конечно, от современности не денемся, но это самое последнее дело, когда писатель становится конъюнктурщиком, рыночным торговцем, разложившим на прилавке яркие бронзулетки. Наверное, это самое низкое, что может сделать писатель.
То есть, он отказывается от великого дара слова, становится маркетологом, мерчендайзером и т. д., не буду продолжать эти поганые слова. Это первое, что мне кажется важным.
Второе. Жизнь мы переживаем как сюжет: со своими взлётами, падениями, со своими удачами, неудачами, со своими интересными и неинтересными моментами. Писатель, во-первых, должен увидеть драму этого сюжета, должен увидеть нерв этого сюжета; во-вторых, должен понять, к чему ведёт этот сюжет; в-третьих, – осмыслить, а как этот сюжет соотносится с другими сюжетами, и где-то это тоже вплести в общую ткань.
И вот, очень важно, чтобы сюжетность жизни, которую творит писатель, соотносилась и с некой мировой, такой великой, грандиозной сюжетностью, и с национальной сюжетностью, и с личной сюжетностью. Этот драматизм, а, может быть, где-то и трагизм (без него – тоже никуда), должны быть через сюжет понятны человеку.
Наверное, это и есть талант писателя, когда он может сюжетность не просто соединить с современностью, а вплести в неё вечность. И тогда получается «Капитанская дочка», «Война и мир» – тогда получаются многие произведения, которые мы знаем уже не одну сотню лет.
Ну и третье. У Лермонтова в стихотворении «Ангел» есть замечательная строчка: «И мир мечтою благородной пред ним очищен и омыт». Это ещё одно важнейшее пожелание, которое нам даёт Лермонтов – как авторам, как творцам, писателям, критикам, поэтам, прозаикам и т. д.
То есть, так или иначе, изображая мир, нужно видеть его через некую великую, благородную мечту. И прозревать эту мечту в самых разных сюжетных ситуациях. Конечно, писателю хочется есть, писателю хочется кормить свою семью и обустраивать свой мир и т. д., – это важнейшие вещи. Так или иначе, мы в этом мире вынуждены к определённым вещам приспосабливаться, где-то жить, ущемляя себя, свои творческие интересы. Но самое главное, чтобы не было ущемления своей совести, измены своему существу.
Александр ФОКИН
Достаточно банально, но правда: чего у нас не хватает сегодня? Не хватает правды. Правды собственного восприятия действительности, правды по отношению к истории, правды по отношению к мужчине и женщине, правды по отношению к семье – не к каким-то там вымышленным категориям. Потому, что фэнтези, модернизм научил нас когда-то, на мой взгляд, больше врать, научил искусственности, вседозволенности.
Прежде всего, что позволил себе человек, и особенно – творческий человек, так это фантазировать, но я бы сказал – врать. А вот чего не хватает – это правды, и не в духе реализма, «классичества» или критического реализма. Не в этом дело, потому, что они там тоже врали, слава Богу. А правды по отношению к себе, чтоб не было потом стыдно за то, что ты делаешь. Это первое.
И, наверное, отсюда тянется логическая связь к ответственности перед читателем. Данная категория, о чем я говорил всегда и молодым студентам филологам и также молодым писателям, называется «куда ты ведешь?». Не знаю, может быть, даже не у всех классиков такая ответственность была, но по крайней мере великие и выдающиеся люди несли ответственность перед читателем. Куда ты ведешь? Условно говоря, «было или не было?» Задай себе этот вопрос.
Я привожу в пример студентам «Сказку о царе Салтане», когда из бочки вылезает мальчик, который в бочке вырос, и ему сразу открывается страшная вещь. То есть, в этом мире, в бочке, он ничего не видел, не знал, что такое жизнь, чудесным образом вылез, и вдруг —видит страшную картинку, когда коршун летает над лебедем, и он стоит перед выбором: убить лебедя, а он шел ведь на охоту, – это значит поужинать, на какое-то время выжить. Убить коршуна – это значит убить некое злое, более сильное существо, которое вот сейчас пытается доставить какие-то неприятности или убить малое беззащитное существо – лебедя. То есть, если ты убиваешь коршуна – уплывает лебедь, остаешься голодным. Стрел больше нет. Только одна. И вот герой совершает удивительный моральный выбор. Он понимает, хотя Пушкин об этом не говорит, – где-то на генетическом уровне понимает, – где добро, и где зло в данной ситуации.
Как он это понимает? Он осознаёт, что если сейчас убьет лебедя, коршун улетит и он будет сыт, то есть совершит поступок для себя. А если убьет коршуна, ну или отпугнет его (в данном случае он его ранил), то он жертвует собой, останется голодным.
В данном случае он жертвует собой, и вот он делает этот выбор. То есть человек, который не воспитывался, не учился в школе, в гимназиях, не получал высшего образования, за полтора суток вырос из младенца в совершеннолетнего юношу, – совершает этот удивительный выбор. В результате он получает наказание за то, что он это делает, он начинает поститься целых три дня (Лебедь говорит ему: «Есть не будешь ты три дня»). Но награда потом была, все стало чудесно!
Все мы каждый день, каждый час, каждую секунду, как я говорю молодежи, стоим перед таким выбором: пожертвовать собой ради других людей и встать на уровне правды, как говорили наши древние люди, то есть их «прави», – или шагнуть в мир «нави», то есть в некий новый мир, более выгодный, может быть, для себя, но это мир «нави», это другой мир.
Здесь всегда нужно занять сторону правды, и тогда будешь ответственность, в том числе, за читателя, которого ты ведешь в «правь» или в «навь», что по-язычески – дьявол.
Александр БУРОВ
Зачем?
(ответ на вопрос: «Зачем писать?»)
Русь, куда ж несешься ты? дай ответ.
Не дает ответа.
Николай Гоголь
Всегда ли мы задумываемся над оттенками значений близких по смыслу слов, или синонимов? Взять, к примеру, местоименные слова – генетические «исходы» речи и ее частей, как тонко подметила Н.Ю. Шведова в работе «Местоимение и смысл», оформляющие вопросы: почему, отчего, зачем, почто (устаревшее). Русский поэт конца XIX века С.Я. Надсон, переводя знаменитое «Warum…» Г. Гейне, употребил в самом начале форму «отчего» не только как трехсложную, удобную для ритмомелодики скрытого хорея, которым он переложил по-русски написанный ямбом немецкий текст, но и как наиболее нейтральную с точки зрения оттеночной семантики. Ведь Г. Гейне вместе со всей природой горюет о расставании с любимой, когда любые причины или цели, а тем более обстоятельствах разлуки отступают на задний план:
Отчего так бледны и печальны розы.
Ты скажи мне, друг мой дорогой…
Отчего фиалки пламенные слезы
Льют в затишье ночи голубой?
И, чего скрывать! – переводчик ведь тоже, как и автор, был поэтом, а значит – творческой личностью, которой сам Бог дал право на свободу самовыражения…
Видимо, именно поэтому Т. Маргамова спустя сто лет после С. Надсона дала свой вариант перевода, притом употребив в самом начале местоимение зачем и потом дважды повторив его в анафоре, да, к тому же, сохранив ямбический рисунок авторского оригинала:
Зачем о розы так грустно-бледны,
Зачем, дорогая, ответь?
Зачем в молчанье погружены
Голубые фиалки в траве?
Но… Зачем, или почему, или отчего, или уж почто эти поэты-переводчики так (а другие – иначе!) сделали?.. или сотворили?..
Вот здесь мне совершенно случайно вспомнился фрагмент из замечательной книги (Майский И.М. Воспоминания советского посла: В 2-х книгах. Книга 1. – М.: Наука, 1964. – 461 с. URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/1102707-ivan-majskij-vospominaniya-sovetskogo-posla-kniga-1.html). Ее шестнадцатилетний герой (он же автор мемуаров) вспоминает, как однажды, далеким летом, задался вопросом, есть ли у него талант поэта или нет:
«Писать, творить уже стало для меня потребностью. Стихи сами собой складывались в голове, руки невольно тянулись к перу и бумаге. И выходило как будто бы довольно складно. Но значит ли это, что у меня есть настоящий, большой поэтический талант? В 16 лет все пишут стихи, однако Пушкины и Некрасовы рождаются раз в столетие. Что ж я такое: один из обыкновенных гимназических стихоплетов или же человек, отмеченный «искрой божьей»?
Настроения мои часто и резко колебались то в одну, то в другую сторону. Иногда мне казалось, что в душе у меня горит яркий огонь таланта и что мне суждено стать крупным поэтом. Тогда я воображал себя вторым Некрасовым (я признавал только «гражданскую поэзию») и в ярких красках рисовал, как я отдаю все свое дарование на службу делу народа и как мой гневный стих ударяет по сердцам людей «с неведомою силой». В такие минуты я чувствовал себя счастливым, могучим и непобедимым. Иногда же, наоборот, мне казалось, что я совершенная бездарность, что стихи мои никуда не годятся и что все мои творческие попытки являются лишь «пленной мысли раздраженьем». Тогда на меня находили уныние, депрессия, неверие в свои силы. В такие минуты я ходил мрачный, нелюдимый и любил декламировать знаменитой гейневское «Warum?»:
Warum sind denn die Rosen so blass,
O, sprich, mein Lieb, warum?
Wanim sind denn im grünen Grass
Die blauen Veilchen so stumm?
И, дочитавши до конца это изумительное стихотворение, я в состоянии глубокого пессимизма задавался вопросом:
– Разве жизнь, природа, человечество, идеи, мысли, чувства, радости, печали, стремления – разве все это не есть одно сплошное, роковое «Warum?»
Я тщательно скрывал от всех минуты моих упадочных настроений, но пред Пичужкой (подруга юного героя – А. Б.) моя душа открывалась. Я искал у нее утешения и одобрения. И она мне это давала. С каким-то чисто женским умением она успокаивала меня и возвращала мне веру в самого себя. Особенно врезался мне в память один случай.
Как-то тихой лунной ночью мы с Пичужкой возвращались на пароходе в Сарапул из Чистополя, куда мы ездили проводить знакомого приятеля. Спать нам не хотелось, и мы долго сидели на палубе, наслаждаясь открывавшейся перед нами картиной. Могучая темноводная Кама тихо сияла под серебром лунного света. Высокие берега, густо поросшие хвойными лесами, угрюмо свешивались над ее шумными струями. Равномерные удары пароходных колес гулко отражались по крутоярам, переливались протяжным эхом и где-то замирали вдали.
Потом мы заговорили. Я вновь коснулся своего больного вопроса. Я долго доказывал Пичужке, как важно было бы, чтобы я имел поэтический талант: я горы сдвинул бы с места, я поразил бы в самое сердце «ликующих и праздноболтающих», я вдохновил бы своей песней народ на борьбу. Я закончил свои мечты горестным восклицанием:
– Если я не стану большим поэтом, то не стоит жить!
Пичужка дружески положила руку на мое плечо и каким-то особенно проникновенным{6} голосом сказала:
– Жить стоит, если ты даже и не станешь большим поэтом.
Пичужка была права. С тех пор прошло много, очень много лет. Я не стал ни большим, ни даже маленьким поэтом. И тем не менее, оглядываясь на весь пройденный мной путь, я с глубоким убеждением могу воскликнуть:
– Да здравствует жизнь!»
Не правда ли, увлекательно написано? А главное – понятно?.. С пониманием, пришедшим к автору потом, в зрелости, когда вопросы, почему, или зачем, или почто… просто растворились в мареве уже далекой, но такой прекрасной, наполненной мечтами и надеждами юности…
Да, местоимение зачем, будучи вопросом, весьма емкое слово, можно сказать – безразмерное. Заставляющее сосредоточиться, собраться с мыслями, включить личную логистику, потревожить собственный Логос. Ответственное… Ведь внутренняя форма слова или любого иного вербального знака (это уж я вам, дорогой читатель, точно скажу, как филолог-профессионал, причем сошлюсь на великого Александра Афанасьевича Потебню и его работу «Мысль и язык») и рождается, и умирает, и воскресает в нашем сознании только при нашем контакте с окружающим миром. В ней наш опыт запечатлевает не только образ, представление нашего сознания, творческого воображения о вещах, людях и положениях, но и авторский посыл-импульс, как своеобразный индикатор антропогенности, рождения нашего ответного движения к Жизни, непременно живого (пусть и тавтологически) и теплого человеческого (оно же субъективное, индивидуально ощущаемое и имманентное личностное и личное) начала, для каждого из нас абсолютно своего, родного… Похожих не было и нет, как говорится. И не будет. А зачем? Ведь прав же герой Э. Успенского лев Чандр, когда на вопрос Чебурашки, какой друг ему, льву, нужен, ответил: «Не знаю. Просто друг»? Или все-таки нет?..
Иван МАРКОВСКИЙ
Молодым писателям
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир…
Ф.И. Тютчев
…Ну, а мне предложили через интернет-журнал «Парус» что-то сказать, что-то пожелать молодым начинающим писателям, побеседовать в кают-компании о настоящем и будущем. Задумался, конечно… И тут же в сознанье вошли строки Тютчева, поставленные мною в эпиграф. Да если честно они и не выходят у меня из сознания в последние годы моей земной жизни. Этому есть ряд причин – как моего личного состояния, так и состояния страны, окружающего нас мира, переживающего, проживающего, поистине «минуты роковые».
Мир на сегодня (15 октября 2023) находится именно в состоянии таких «минут», где каждая последующая ещё более роковая, чем предыдущая… И что-то сказать в такие минуты к будущему – это, поистине, оказаться собеседником самого Рока… И нелёгкая это задача – в минуты роковые что-то желать, что-то говорить молодым писателям – и просто людям. Лёгкое, беззаботное, весёлое – не подходит: не те минуты… Что-то безнадёжно роковое – слишком грустно. Это означало бы признать полную нелепость, несостоятельность человеческого бытия, к чему и так человечество опасно приблизилось. Само или кто-то подвёл?.. Но какой смысл, стоя на краю бездны, искать ответ на этот уже запоздалый вопрос?.. Надо или перешагнуть бездну… Или хотя бы отступить от обрыва назад – на твердую земную почву, к уверенности, что не сползём с оторвавшимся комом земного дёрна в клокочущую огненную лаву или в пучину Мирового Океана…
Какой он – писатель будущего? И каким будет это будущее? Конечно же, будущее, если оно будет, вытекает из настоящего. Кто мы и какие мы в настоящем, примерно таким будет и будущее; с небольшой поправкой на гаджеты, на родителей, на среду, «и на всякую ерунду», что называется Космос, Хаос, Энергия, «светил численность». Поэтому будут и фантасты, и реалисты, и, как это ни странно, будут и фашисты. Конечно, называться они будут по-другому, безобидно, даже благожелательно.
Так способен ли молодой писатель настоящего ощутить, а ещё больше – создать такую земную уверенность в своих мыслях, в душе, и в окружающих его людях, уверенность, которая позволит ему перешагнуть Бездну: «Кто голос духа своего услышит, тот над бездною да вознесётся» (Сергий Радонежский).



