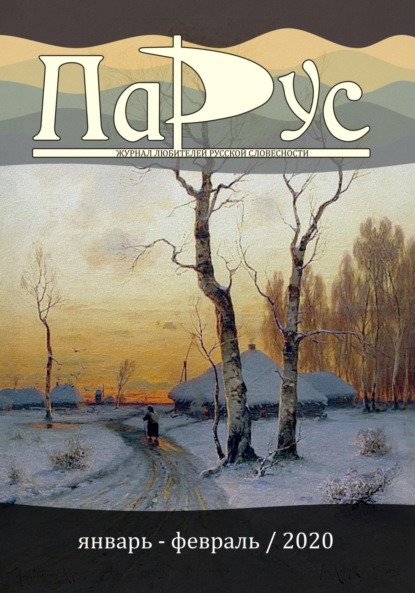
Полная версия:
Журнал «Парус» №80, 2020 г.
Покуда розовеют на глазах макушки тополей и стрелы кранов…
Поначалу ты даже решил не ломать ее пополам. И даже что-то такое стало уже мерещиться рядом, наподобие второй строки:
Смотри в окно, на птиц и на людей, печально улыбайся на прощанье…
Но тут же ты понял, что получается как-то слишком уж печально… с чего бы вдруг? Ведь настроение у тебя сегодня совсем не траурное, да еще и эти розовые верхушки, предвестники близкого солнечного восхода, уже пролезли в твое будущее стихотворение… оно уже внутренне озарено ими! А что, если все-таки сломать строку пополам?
Покуда розовеют на глазах
Макушки тополей и стрелы кранов…
Что ж, неплохо. Теперь в дело идет рифма:
Ищи тра-та-та в серых небесах…
Но что это за тра-та-та такая? Ищи кого-то в серых небесах? Ищи усмешку в серых небесах? Гм, если твой герой все-таки чем-то с утра опечален, то он может, конечно, искать в серых небесах и усмешку – свою собственную, конечно. Ту самую, которую он тут же спрячет в своих усах, пожелтевших от слишком частого употребления дешевого табака… Стоп, стоп!.. вот же оно, слово – усы! В усах!
Ищи тра-та в прокуренных усах…
Опять эта тра-та… Да и что можно искать в усах? Уж лучше тогда катать… Ведь если посмотреть на героя пристальнее, то можно заметить, что у него беззвучно шевелятся губы, а значит, и усы – он ищет нужное слово, он перекладывает слова с место на место, перекатывает слова, катает их…
Господи, вот оно уже и пошло, поехало…
Покуда розовеют на глазах
Макушки тополей и стрелы кранов,
Катай слова в прокуренных усах…
Вот так оно всё обычно и начинается у тебя, и продолжается, и катится, и лепится, и рождается одно из другого, – и отсекается, конечно, если оказывается чужеродным. А в итоге – покуда твои собратья по утреннему автобусу молчали, ты создал маленький шедевр.
Ну, пусть не шедевр. Но все-таки это вышло хорошо. Ты ухватил что-то незримое и неслышимое, доселе никем не замеченное, не ухваченное, не воплощенное в слово. Заметил, ухватил, воплотил…
Вот уже и конечная остановка. Пора выходить, пора перетаскивать душу на совсем другую волну. Хорошо хоть, что стихотворение фактически сочинилось уже, не нужно откладывать его доработку на потом – зайди-ка потом в это же самое состояние души, попробуй. Получилось, что ты уже всё сказал?
Ты всё сказал, пока они молчали…
Но вот это, может быть, уже и перебор. Они ведь тоже, эти молчащие головы, о чем-то думали всю дорогу. Может быть, пытались решить какую-нибудь сложнейшую теорему, придумать схему перенастройки станка, новую методику продаж…
«Но они ничего не сказали, – думаешь ты, утопая в людском водовороте. – Они молчали. А ты сказал, ты уже сказал. Тебе осталось только записать…»
Тебе осталось только записать,
Перенести на белую бумагу…
«Господи, – бормочешь ты, шагая по залитому утренним солнцем тротуару, – ну почему, почему именно сейчас я должен вновь начинать думать о куске насущного хлеба? Ведь настоящий мой хлеб – это то, чем я занимался эти полчаса! Неужели этот хлеб никому, кроме меня, не нужен?»
ГНОМЫ
Синий луг и зеленое небо
Гном подземный малюет опять…
– Некрасиво, неверно, нелепо!
– Я так вижу! –
Ну, что ж, исполать.
Исполать вам, подземные гномы,
Что желаете видеть свое.
Я не враг вам. Но в ваши хоромы
Не ведите – мне там не житье.
Не селите в замшелую нору,
Не могу я там жить, не хочу.
Сердце молится только простору
И бессмертного солнца лучу!
Не хитрите, подземные гномы,
И не числите нас во врагах.
Всех врагов схоронили давно мы
В синем небе, в зеленых лугах.
Мировая культура приемлет полярные взгляды на одни и те же явления нашего мира. И все-таки история земных цивилизаций, век за веком, отсеивает зерна от плевел – и разрекламированные картины, изображающие синий луг и зеленое небо, уродливые «авангардные» стихи и романы и пошлые театральные постановки опускаются на дно, становясь сначала песком времени, а потом его мутью. И на просторе человеческой культуры вновь расцветают белоснежные лилии подлинного искусства.
Я никогда не поверю в то, что астронавт, летящий в 48-м веке по орбите Сатурна, в минуту отдыха будет погружаться душой в оргии де Сада, в примитивный мир Малевича и Кандинского, в местечковые поделки какого-нибудь Утесова. Нет, он захочет погрузиться во что-то равновеликое тому, что видит в иллюминаторе – в мир Микеланджело, Пушкина, Баха…
Так и вижу, как поднимаются на дыбы неистовые ревнители толерантности. А, кричат они, ты готов, подобно Гитлеру, объявить всё, что тебе не нравится, «дегенеративным искусством», отправить его творцов в Майданек?..
Успокойтесь, господа. Гитлер – это Гитлер, а я – это я. Опять же, Гитлер был убежден еще и в том, что дважды два – будет четыре. А вы будете утверждать, что дважды два – пять?
ШЕПОТ РОЗЫ
Стихи или прозу
Писал я, дурак молодой?
Прелестную розу
Поставил я в банку с водой.
И сел за тетрадку…
А роза склонилась слегка –
И светлую прядку
Поправила мне у виска.
Стихи или проза
Успешно ложились в тетрадь.
Повадилась роза
Мне на ухо что-то шептать.
Но, в шуме столетья
Тот шепот расслышав едва,
Не смог одолеть я
Привычки транжирить слова.
Лета свечерелись.
Поднялся я из-за стола.
– Ты где, моя прелесть?
А роза уже отцвела.
Сухое подобье
Цветка с помертвевшим листом,
Смотря исподлобья,
Стояло в сосуде пустом.
В неясном волненье,
Среди опадающих дней,
Я встал на колени
Пред юностью мертвой своей.
Занозы столетья
В ладонь мою больно впились.
– Ответь мне, ответь мне,
О чем ты шептала всю жизнь?
Но только усталость
Смотрела с цветка моего.
Уже осыпалось
Сухое подобье его.
В сосуде столетья
Качнулись мои времена.
О Боже, ответь мне,
О чем же шептала она?
Ты пишешь и пишешь, а роза твоей жизни увядает… И вот она засыхает окончательно. Глядя на бумажное подобье своей неповторимой судьбы, на все эти опубликованные тобой стихи, прозу, статьи, эссе etc, ты задаешь себе сакраментальный вопрос: а на кой ляд тебе всё это было нужно? Что это тебе дало?
Деньги? Сущие копейки!
Известность? Да пропади она пропадом!.. ведь ты теперь шагу не можешь ступить без того, чтобы на тебя не показывали пальцем, не подглядывали за тобой во все замочные скважины!
Чувство самоуважения? А за что тебя уважать, брат, – за то, что ты всю жизнь самозабвенно водил пером по бумаге, вместо того, чтобы драться на дуэлях, путешествовать и менять женщин, как перчатки?
Но тут же из тумана истории выходит твой собрат по перу, грузный мужчина с пышными усами, – и, схватив тебя за ворот, мрачно рычит:
– Я точно высчитал, сколько мы утрачиваем за одну ночь любви. Слушай меня внимательно, юноша, – полтома. И нет на свете женщины, которой стоило бы отдавать ежегодно хотя бы два тома!
Отшатнувшись, ты попадаешь в объятья другого собрата, высокого господина в пенсне, который, покашливая, замечает:
– Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют…
А затем рядом с тобой материализуются третий, четвертый… и вот ты уже окружен сонмом известнейших людей, ставящих творчество выше жизни. Кое-как высвободившись из их объятий, ты бормочешь нечто вроде того, что всегда хотел не только творить, но и жить… И в этот момент на засыхающую розу твоей судьбы падает первый нежный луч розовой зари, возвращая тебя к письменному столу.
– Я же не только творил, я еще и жил, – бормочешь ты, глядя на сухое подобье роскошного цветка. – Землю попашем, попишем стихи… как-то так…
Диана КАН. Московский форум корейского содружества
Состоявшийся в Москве Международный форум русскоязычных корейских писателей, организованный Институтом литературного перевода Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея, был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. География только официальных участников форума – всемирная, не говоря уже о том, что на него приехало множество корейских деятелей культуры, к примеру, из Торонто (Канада), США и других стран Перечислим лишь некоторые имена участников. Это писатели Анатолий Ким, Александр Кан, Владислав Хан, Диана Кан, Владимир Наумович Ким (Ёнг Тхек), Роман Хе, Марта Ким, южнокорейский поэт Ли Дон Су… Это учёные-лингвисты и писатели-переводчики – профессор Ким Хён Тхэк из Университета иностранных языков Хангук, директор Корейского института литературного перевода, поэт Ким Саин, литературовед того же института Со Хёнбом. К сожалению, далеко не все представители корейской литературной и культурной диаспоры смогли быть на форуме в силу разных причин. Но зато организаторы сделали то, о чём говорилось и мечталось давно – издали «Книгу Белого Дня (Литература корейцев СНГ в поисках утраченной идентичности)» – сборник избранных эссе Александра Кана. Нынешний форум в России прошел впервые, но вообще он третий по счёту – два предыдущих состоялись в Китае и Японии.

Форум проходил в культурном центре посольства Республики Корея. Это историческое здание на Чистых Прудах рядом с театром «Современник». Открыл мероприятие приветственной речью чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Российской Федерации господин Ли Сок Пэ, отметив, что форум является первым в череде мероприятий и торжеств, посвящённых развитию дружеских межгосударственных связей Республики Корея и Российской Федерации.

Директор Корейского института литературного перевода, поэт Ким Саин в своем приветственном слове выразил искреннюю надежду, что форум станет залогом того, что мы внимательнее рассмотрим и учтём уроки истории на будущее. Что форум станет ещё одним звеном налаживания живого диалога между писателями корейской диаспоры и корейскими писателями. «Мы очень гордимся тем, что литература корейской диаспоры наполняет русскую литературу новыми смыслами, – добавил господин Ким Саин. – Нам бы хотелось выразить слова благодарности и уважение русскому народу за то, что он с такой теплотой относится к малым народностям. Ведь именно благодаря влиянию прекрасной русской литературы таланты корейских писателей смогли так замечательно проявиться».

Модераторами первого дня форума были профессор Университета иностранных языков Хангук, известный в Корее русист Ким Хён Тхэк, а также не менее популярный филолог и литературовед, профессор Ким Хён Тхэк – один из организаторов форума. С основным докладом выступил известный русский прозаик, чьи произведения переведены на 28 языков мира, Анатолий Андреевич Ким. Он говорил о русской литературе и национальной идентичности писателей корейского происхождения. Доклад маститого литературоведа Со Хёнбома был посвящен литературе корейцев Китая и Японии.
Второй день работы форума был ознаменован интереснейшим докладом (с уникальными фотографиями) известного корейского поэта, лауреата множества литературных премий Ли Дон Суна «Генерал Хон Бом До – типичный представитель корейской диаспоры». Решение написать поэму о генерале Хон Бом До поэт принял в далёком 1983 году. Решение пришло по завету его деда, участника борьбы за независимость Кореи, заключенного в тюрьму японцами и подвергнутого пыткам, не совместимым с жизнью. Неудивительно, что история корейского движения за независимость так волновала внука героического деда. Выбор поэта пал на народного генерала Хон Бом До, итогом чего стал поэтический эпос «Хон Бом До» в пяти частях (в десяти книгах), работа над которым длилась двадцать лет! В 2003 году поэма была издана.

Также большой интерес собравшихся вызвал доклад издателя русскоязычного сайта «Корё Сарам» Владислава Хана «Вариации на тему “Покинуть родину – переехать – пустить корни” в истории переселения корейских соотечественников». Владислав Хан посмотрел на проблему сквозь оптику литературного творчества, приведя примеры из произведений писателей Анатолия Кима (повесть «Рассказы моего отца»), Михаила Пака (роман «Смеющийся человечек Хондо»), Владимира Наумовича Кима (Ёнг Тхек; роман «Кимы», повесть «Ушедшие вдаль»), Владимира Ли (повесть «Берег надежды»), Александра Кана (книга эссе «Родина») и многих других.
Кстати, вышеупомянутый Александр Кан был модератором второго дня форума и открыл мероприятие докладом «Литература как Родина и Спасение». Как литература становится родиной в условиях потери родины? И как она же, литература, становится спасанием тогда, когда, казалось бы, нет надежды на спасение?..
Думается, каждый писатель отвечает на эти вопросы по-своему. К примеру, доклад московской поэтессы Марты Ким был построен на основе авторских стихотворений, где поэтесса говорила о языке, о радости и боли, о любви и разлуке, о надежде и разочаровании…
Очень живой отклик собравшихся вызвал доклад писателя Владимира Наумовича Кима (Ёнг Тхек) «Амбвивалентность укоренения – “Корни” и “Рассеивание”», который был посвящен трагической истории корё сарам (самоназвание этнических корейцев на постсоветском пространстве), проблемам выживания и жизни в инородной среде. «…Как бы ни обрусились, нашим родителям никогда в голову не приходило заставлять нас отрекаться от своей национальности. – подчеркнул Владимир Наумович. – А вот в Японии, насколько я знаю, корейцы с детских лет скрывают свою национальную принадлежность. Потому что там к корейцам относятся как к людям второго сорта… В этом отношении корейцам СНГ повезло. А всё, что мы потеряли – родной язык, уклад жизни, какие-то традиции – можно восстановить. Но то, что мы приобрели вдали от родины предков – чужой язык, культуру и прочее – отнять нельзя. Это достояние корё сарам, которое, как и его славная история, есть составная часть культуры корейского народа».
Я представила доклад на давно волнующую меня тему становления корейских соотечественников в России и СНГ писателями русской литературы. Я исходила из своего личного, порой трагичного жизненного опыта, когда некоторые, скажем так, не отмеченные литературным талантом коллеги не раз пытались меня унизить по национальному признаку. Зато они же научили меня тому, что если хочешь состояться в профессии, ты не должен просить себе скидок ни по национальному, ни по возрастному, ни по половому признаку. И эти же нападки привели к тому, что я сформулировала для себя единственный приоритет в литературе – качество текста, которое не должно давать шансов твоим завистникам… Завершил серию докладов замечательный поэт Роман Хе, приехавший на форум из Сахалина. Его доклад стал авторской мелодекламацией, ведь Роман Хе известен как поэт, умеющий превращать поэзию в музыку и музыку в поэзию… Не могу не восхититься виртуозной работой корейских переводчиц-синхронисток, благодаря которым мы, гости из самых разных стран, не ощущали никакого языкового барьера.
Отрадно, что несмотря на то, что форум был официальным межгосударственным мероприятием, на нём царила такая атмосфера дружбы и взаимной заинтересованности, что его можно назвать форумом корейского дружества, взаимопомощи и, конечно же, любви к Литературе, которая побеждает эпохи и границы.
Фотографии предоставлены международным сайтом «Корё Сарам» и его руководителем Владиславом Ханом
Литературная критика
Валерий ТОПОРКОВ. К истолкованию стихотворения Константина Кравцова «Белыми нитями тел…», или Полный цикл превращений одного образца современной религиозной поэзии
Белыми нитями тел
сшитый с землею едва,
холод высок как расстрел.
За ночь седеет трава,
зиждется слабый огонь
и не отходит от рва –
сыплет и сыплет в ладонь
полные снега слова [9].
Откровенно говоря, я не знаю, как доказать абсолютно очевидный для меня, как читателя, факт, но, вопреки всякому сомнению, утверждаю: перед нами не просто восемь строк трехcтопного усеченного дактиля или терцинный октет с трехчастной композицией и повествовательной (элегически-медитативной) интонацией – перед нами пример самой что ни на есть чистой, живой, совершенной поэтической речи во всей своей неброской и торжественной красоте, подлинной и глубокой трагичности, близкой, хотя и не тождественной молитвенной (панихидной). Читаешь стихотворение – и словно делаешь восемь глотков студеной колодезной воды, утоляя жажду – с заходящимися зубами, обожженным горлом, напрочь заледеневшей утробой. Вольно или невольно оно заставляет вспомнить пророческие слова Николая Гумилева: «…наступит время, когда поэты станут взвешивать каждое свое слово с той же тщательностью, как и творцы культовых песнопений» [5].
В самом деле, чем больше и сосредоточеннее погружаешься в этот поразительно цельный, необъяснимым образом завораживающий текст, тем отчетливее понимаешь, что если и вправду истинная природа лирической поэзии не имеет ничего общего с пресловутой «субъективностью» [подр. см.: 8], то насколько же она должна быть выше любых частных, сугубо индивидуальных человеческих притязаний, чтобы дать нам едва ли не единственную возможность по-настоящему приобщиться к исконной – беспримесной и неискаженной – метафизической реальности речи, свое высшее предназначение обретающей отнюдь не в «окончательной» изученности или оценке – но в способности оставаться некоей тайной, терпеливо ждущей «разгадки и понимания духа бытия» (согласно определению цели и сущности художественного творчества, сформулированному когда-то Иваном Лукашом) [6]. Ведь помимо того, что мы неизменно обозначаем двуединой категорией «форма-содержание», или обобщенно – «эстетическое», поэтическое слово всегда несет в себе так или иначе распознаваемые признаки породившего его культурно-мировоззренческого основания. Не случайно Борис Пастернак писал, «что искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но, наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины» [7]. И не важно, разрешима ли в принципе проблема его понимания на строго научных (рациональных) путях или нет, – ведь искусство тогда только оказывается до конца оправданным, неизбыточным, когда ответом на него, помимо ожидаемых «критического разбора» или «научного анализа», становится ― опять-таки ― искусство, о важнейшем из критериев оценки которого когда-то очень точно сказал Александр Блок: «К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота о долге, о должном и недолжном в искусстве. Вопрос этот – пробный камень для художника современности…» [2].
Исключительная ценность лирического стихотворения как потенциального «сплава переживаний» состоит в том, что, сохраняя неизменной свою духовную сущность, оно не является самотождественным уже относительно двух независимых прочтений. «Понимание, – писал Ганс-Георг Гадамер, – может выходить за пределы субъективного замысла автора, более того, оно всегда и неизбежно выходит за эти рамки» [3]. Согласно же Полю Рикёру, «истина каждого образа проясняется в образах, следующих за ним» [10].
В связи с этим особый интерес приобретает тот факт, что еще в средневековой (традиционной) индийской поэтике было разработано специальное учение, согласно которому все подлинно поэтические тексты несут в себе так называемое скрытое значение, сокровенный смысл или затаенный эффект – дхвани.
Различают три типа дхвани: 1) несущий простую мысль; 2) вызывающий представление о какой-либо семантической фигуре; и 3) внушающий то или иное поэтическое настроение (дхвани-раса).
Последний, безусловно превосходя потенциал первых двух, соответствует высшему уровню литературы (поэзии) и, в свою очередь, делится еще на два подтипа: 3.1) когда словами выражено одно, а сказать хотят совсем другое; 3.2) когда выраженное словами совпадает с тем, что хотят сказать, но подчинено оно другому намерению. В теории дхвани-раса (т. е. поэтической суггестии, пользуясь более привычной терминологией западноевропейской поэтики) описаны следующие десять видов поэтических настроений: любви, иронии, сострадания, гнева, мужества, страха, отвращения, откровения (изумления); спокойствия, ведущего к отречению от мира; родственной близости [подр. см.: 4].
Отсюда можно предположить, что дхвани «Белыми нитями тел…» относится к третьему из вышеназванных типов, в подтверждение чего остается лишь показать, каким образом его поэтическое настроение (центральный мотив) передается (внушается) читателю, а также определить его вид.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что в тексте стихотворения отчетливо выделяются два лексико-семантических ряда: «человеческий» и «природный». Тщательно их анализируя, нельзя не обнаружить, что не они вовсе несут на себе главную поэтико-семантическую нагрузку, – но ещё один (третий) ряд, частью смешанный, частью производный, который образуют слова, в силу своей изначальной или новоприобретенной многозначности либо относящиеся и к «человеческому» и к «природному» ряду, либо – сверх природного и/или человеческого – приобретающие тот или иной дополнительный метафизический смысл.
Сложная творческая работа поэта, конечно же, прослеживается в намеренном сближении, пересечении материала первых двух рядов между собой, а также первого и второго – с третьим, и наоборот, результатом чего становится общее смещение (сдвиг) смыслов (значений, образов) или, выражаясь фигурально, полный цикл их превращений, синтезируемых в дхвани. Причем ключ к уяснению тематического содержания стихотворения, по всей видимости, дан поэтом в третьей строке, отталкиваясь от которой можно предположить, что в нем говорится о неотвратимом человеческом страдании, событийно реализованном в сцене жуткого насилия – «расстреле», своеобразным памятником жертвам которого и призвано стать это пронзительное восьмистишие.
Процесс, по-моему, лучше всего демонстрирует гегелевская диалектическая триада, где тезису соответствует реалистически понимаемое художественное пространство (место действия, внешняя к а р т и н а р а с с т р е л а), антитезису – сам р а с с т р е л (как действие, факт убийства, насильственной физической смерти), а синтезу – то, что можно назвать д у х о в н ы м д е л а н и е м в его религиозно-творческом воплощении, через которое мученическая, воистину преображающая (очищающая) гибель обретает свой окончательный (сакральный) смысл как тайна (перспектива) посмертного бытия «под сенью Всемогущего» (Пс. 90:1), «в руке Господа» (Ис. 62:3).
Но чтобы как-то приоткрыть глубину того, что скрыто за синтетической ипостасью текста, для которой характерна предельная семантическая (металогическая) концентрация, я попытаюсь дать его развёрнутое истолкование.
Итак, самый первый и самый последний образы стихотворения, его альфа и омега: «белые нити тел» (метафорический) и «полные снега слова» (симфорический) – они не просто оригинальны, не просто сильны, но и удивительно необычны. «Тела» казненных – «белые» на темном фоне «земли» («рва» – будущей братской могилы) – названы поэтом «нитями», которыми «высокий холод» – некая ткань (ближайшие ассоциации – воздушная, небесная («Он распростер небеса, как тонкую ткань…» (Ис. 40:22))) – «сшивается с землей» – другой тканью или (опять же ассоциативно) материей. Ясно, что человеческие «тела» являются лишь видимыми, внешними или наружными частями подразумеваемого (двустороннего, прерывистого) шва – лицевыми стежками, то есть шва, образованного единой нитью, изнаночные части которой, соответственно, остаются невидимыми (скрытыми). При этом зримые и незримые части этой нити, надо полагать, принадлежат как земной («ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19)), так и небесной ткани (тверди) («Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65, 17)). То есть, скорее всего, речь здесь идет о двуединой природе самого человека, ее всегдашней внутренней (умственно-волевой) напряженности и противоречивости.



