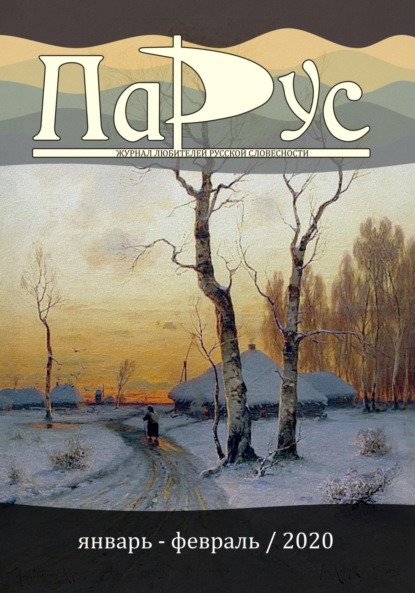
Полная версия:
Журнал «Парус» №80, 2020 г.
Небо (воздух, воздушное пространство) специфицируется поэтом как «холод». В реалистическом плане – это «холод» осенне-зимней ночи или раннего утра (обычное время приведения в исполнение смертных приговоров). А между тем только после указания на «землю» в развитии сюжета начинают воочию проявляться все сопутствующие предметы и явления окружающей природы, играющие в нем не просто вспомогательную (пейзажную) роль. Действительно, природа предстает перед нами как активный соучастник всего происходящего, как нечто персонифицированное (антропоморфное), самостоятельное, далеко не безразличное (прием олицетворения). Даже «трава» за ночь не просто покрывается инеем или «снегом», но «седеет», (пред)чувствуя страшное (психологический параллелизм), и в этом ее относительная, но все более и более одухотворяющаяся, обретающая очеловеченные признаки жизнеспособность.
«Холод» же в своем предельном, сущностном, воплощении определенно становится символом великой (евангельской) скорби, а значит – скорби «высокой». «Высокой» настолько, что можно расслышать голос Спасителя: «В мире будете иметь скорбь…» (Ин. 16:33). И как подтверждение тому – «огонь», «зиждущийся» (почувствуйте, как аллегория адской злобы уже согрета «нагорной» любовью (см.: Мф. 5:44), упрямо «не отходящий от рва»… и все-таки «слабый» (здешний, земной, преходящий). Ибо сказано: «…Я победил мир» (Ин. 16:33). Мученическая смерть оборачивается приобщением к этой безначальной победе («поглощается» (Ис. 25:8; 1 Кор. 15:54)) – «земля» «сшивается» с «высоким холодом» (небом), далеко не случайно сравнивающимся с р а с с т р е л о м, постигаемым как нечто открывающее, прокладывающее путь горе, а не долу (земле, вечной смерти, грядущей за реальным (пистолетным, ружейным или пулеметным) о г н ё м, в мгновение ока прошивающим еще живые тела смертоносным свинцом, точно прокалывая их незримыми иглами). Она «сшивается» с «холодом», который не прейдет до скончания века… А сейчас, сразу за первыми выстрелами – кажется, волею какого-то надмирного сочувствия – начинается снегопад. Его начало символично, – ведь в эту секунду человек поднимает глаза, подставляет ладонь. Почти машинально. То есть природа вновь реагирует, отзывается на происходящее, вторя падению т е л в р о в («ладонь» земную). При этом воображаемые траектории падения снежных хлопьев еще более усиливают ассоциацию с небесной тканью, фактура которой, таким образом, оказывается достаточно проявленной: тканью, сшитой «с землею едва».
Однако мы уже видели, как природное освобождается от ига собственной материальности («ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7:31)), и поэтому легко угадываем где-то за могильной «ладонью рва» – всесправедливую, крепкую, несокрушимую Длань, заботливо подставленную избранным («овцам») своим – «белым» от переполняющего их «снега» – Живым Богом («И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28)). Рухнувшие на «землю», «ссыпанные» в «ров» «нитчатые тела» противопоставляются «сыплющимся в ладонь словам». Тленная (тающая, исчезающая) белизна первых – очистительной заснеженности вторых, для которых «прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1). Я назвал бы эту заснеженность верным признаком просветленности от «духа и жизни» (Ин. 6:63) – наградой за последнюю, неуничтожимую, сокровеннейшую надежду на посмертное Тепло, неустрашимость перед «холодом мира», в которой чутким читателем уже угадывается соответствующая разновидность навеваемого стихотворением (прикровенного) настроения – «спокойствия, ведущего к отречению от мира» (в заданном контексте название, разумеется, условное), девятое из десяти в перечне проявляемых поэтических настроений, составленном теоретиками школы «дхвани-раса».
И вот: «огонь… сыплет… слова» – то есть, поражая «тела» вольных или невольных мучеников, медленно присыпаемые – видимым – «снегом» (саваном), и сами же ему уподобленные, на цепенеющей от палаческих (портновских) пулевых (игольных) ударов (уколов) границе земли и неба, на самом деле он открывает путь избавляемым от бренной (телесной) тяжести бессмертным «словам» (душам), уносящим с собой – «снегом» невидимым – не только всю скорбь, всё терпение, но и всю преодолеваемую ими (жестокую) действительность. Именно поэтому «снег» продолжает идти уже внутри самих «слов», непостижимым образом наполняя их силой неумолимого пророчества: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10:39). А это, похоже, и есть несбереженные, потерянные души, идущие «от великой скорби» (Откр. 7, 14; ср.: Откр. 6:9). Следовательно, если «спасение есть чистый источник живой воды» [1], то кравцовский «снег» (воду замерзшую – посмертную) разумно было бы истолковать и как имя состояния (модуса) промежуточного между состоянием «вод» жизней человеческих (см.: Откр. 17:15), с одной стороны, и состоянием «воды жизни» вечной (cм.: Откр. 22:1) – с другой (со всеми вытекающими отсюда ассоциациями). И этот «снег», начинающийся по эту сторону, реальный, продолжается уже по ту сторону, ослепляя своей сверхреальной всенарастающей белизной…
Думаю, излишне приводить здесь какие-либо примеры из русской, европейской или мировой истории. Ее красноречивым мартирологам несть конца. Надо только помнить, что монолог «Белыми нитями тел…» спроецирован поэтом на все времена – прошлые, настоящие и будущие. Он будто видит сам и помогает увидеть нам, как от озябших, застывших т е л казнимых, падающих в р о в вместе со «снегом», вопреки довлеющей физике, исходят – высвобождаются – «сыплются» каким-то неизъяснимым «снегом» инобытия – их души («слова»). Прибавьте к этому патетический, возвышенно-заупокойный тон стиха: отталкиваясь от реальной к а р т и н ы р а с с т р е л а, знакомой еще по старым черно-белым кинохроникам с ускоренным движением кадра, наше воображение постепенно уподобляется рапидной киносъемке, замедляющей (упокаивающей) время запечатлеваемых событий, как бы стремящихся побороть в себе собственную же природу – временность, выходя за ее рациональные границы – в область «вечного настоящего» (“nunc stans” Фомы Аквинского).
В этом проявляется мотив вечной, всеохватывающей Божественной памяти. Приобщением к ней отмечены все одухотворенные «слова», все спасаемые «слова» без изъятия, включая нас, читателей необыкновенно талантливого произведения, духовной основой которого могло стать исключительно религиозно-творческое миросозерцание автора.
Без прямых конфессиональных или вероучительных отсылок, минимальными языковыми средствами им достигается переосмысление творимого в мире зла в иррационально-религиозном, тотально-промыслительном ключе, ставшем верным источником нового слова о мученичестве, столь ощутимо проникнутого умонастроением непререкаемой и неуязвимой веры чающего «воскресения мертвых, и жизни будущаго века»…
Уверен, даже несмотря на то, что предложенную интерпретацию вряд ли можно считать исчерпывающей и бесспорной, главный итог любого неповерхностного, если не конгениального прочтения этих восьми леденяще-обжигающих строк, сродни внезапно найденному катарсическому коду, будет неизменным, какими бы путями к нему не идти.
Список использованной литературы
1. Библейская энциклопедия. М.: ТЕРРА, 1991. С. 129.
2. Блок А. А. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 4. С. 55.
3. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 19.
4. Галинская И. Л. Загадки известных книг. М.: Наука, 1986. С. 15–17.
5. Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. С. 68.
6. Лукаш И. С. Портреты (Лесков, Мережковский) // Человек. 1992. № 2. С. 140.
7. Пастернак Б. Л. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Художественная литература, 1990. Т. 3. С. 279.
8. Соловьев В. С. О лирической поэзии // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. С. 399–401.
9. Кравцов К. П. Январь. М.: Э.РА, 2002. С. 20.
10. Ricœur P. Autobiographie intellectuelle. Paris: Esprit, 1995. P. 36.
Литературоведение
Юлия СЫТИНА. О некоторых особенностях «арифметики» Достоевского
Реализм Достоевского порою называют «фантастическим». Таким можно назвать и отношение писателя к «арифметике». У Достоевского, закончившего Инженерное училище и получившего хорошее математическое образование, были с ней особые отношения, что нашло отражение и в поэтике его произведений. К вопросу об «арифметике» Достоевского так или иначе обращались многие исследователи, выделяя различные ее истоки, делая те или иные акценты в зависимости от предмета своих научных изысканий.
Почти одновременно с появлением Достоевского в литературе заявляет о себе и неэвклидова геометрия, открытия которой впоследствии неизменно будут сопоставляться с художественным миром писателя. К такому сравнению побуждает исследователей сам Достоевский: его герои то восстают против «математики» («подпольный» человек), то, напротив, апеллируют в философских исканиях к «арифметике» (Родион Раскольников) или к Эвклиду (Иван Карамазов). Наиболее распространенной, вероятно, можно считать точку зрения, согласно которой мировоззрение Достоевского и даже его поэтика во многом могут быть соотнесены с неэвклидовой геометрией, но никак не обусловлены ею: Достоевский идет своим путем, научные открытия только подтверждают его мировидение. Об этом так или иначе писали уже религиозные философы Серебряного века – В.В. Розанов [39, с. 97], Вяч. Иванов [38, с. 232–233], Н. Бердяев [2, с. 61–62], а затем Г.С. Померанц [37, с. 72–105], Е.И. Кийко [25], В.Е. Ветловская [5], В.Н. Захаров [22; 23], Б.Н. Тарасов [45], Ф. Хеффермель [53] и другие исследователи. Б.Н. Тихомиров отмечает, выражая, как представляется, наиболее распространенное мнение: «<…> познакомившись с идеями неевклидовой геометрии, писатель в кризисе традиционных математических представлений будет искать дополнительное подтверждение принципиальной невозможности рационального постижения “запредельной”, не вмещающейся в “земной закон” божественной истины» [47, с. 103].
Однако существует и иная точка зрения, распространенная по преимуществу вне достоеведения, согласно которой именно математические открытия повлияли на мировоззрение Достоевского. Её развивает, например, И.С. Кузнецова, размышляя о конфликте типов теоретической и практической рациональности в русской философии и науке XIX века. К его началу, как аргументированно пишет исследовательница, в русском обществе сформировался «тип рациональности, в основе которого лежали принципы классической физики, нормы доказательности научных утверждений, выработанные в математике XVII–XVIII столетий» [28, с. 8]. Одним из главных постулатов этого подхода, имеющего не только абстрактно-теоретическое, но и онтологическое и даже этическое измерения, было убеждение в том, что параллельные прямые не пересекаются. И.С. Кузнецова приводит суждения Л. Эйлера, согласно которым «даже если» традиционное учение не может быть неопровержимо доказано, оно должно быть сохранено, поскольку из него «не только не проистекает никаких неудобств, но более того, из противоположной гипотезы родится очень много противоречий» [28, с. 8].
Любопытно, что похожая логика затем появится и у либералов с радикалами на «незыблемость» прогрессивных экономических теорий и политических идей века. С такой точки зрения будут критиковать и Достоевского [см.: 17; 22; 27]. Сам же писатель заметит устами рассказчика в «Подростке», что «здравый смысл» отличается от «реализма»: «Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что он слеп» [10, с. 115]. В скобках можно заметить, что «здравый смысл» у Достоевского (да и у некоторых других русских писателей) зачастую приобретает отрицательные коннотации, связанные с ограниченностью и поверхностностью отсылающего к нему человека [см.: 7, с. 45–46; 42, с. 133]. Широко известны и другие высказывания Достоевского о «реализме»: «<…> то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив» [13, с. 19]; «Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала – это все еще пока для человека фантастическое» [11, с. 145].
«Концы и начала» были фантастичны и для эвклидовой геометрии, расширять понятия которой начинает в 1830-е годы уже новая, неэвклидова. Одним из ключевых в развитии этого методологически нового подхода стало имя Н.И. Лобачевского, которому удалось при помощи «неевклидовой» геометрии как получить «уже известные интегралы, что означало выполнение новой теорией функции объяснения известных математических фактов» [28, с. 11–12], так и предсказать новые. И вновь напрашивается ассоциация с оценкой Достоевским своего художественного метода: «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики <…> Ихним реализмом – сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось» [12, с. 329].
Симптоматично, и тем отчасти может быть дополнительно оправдана проведенная аналогия, что как против Достоевского («Это такой мутный источник, которым не следует пользоваться» [54, с. 742]), так и – причем не менее яростно – против Лобачевского и его последователей («совершенно бессмысленная чепуха» [55, с. 185] – о математике Г. Гельмгольца) обрушился Н.Г. Чернышевский, смотря на научные открытия «эвклидовым», совершенно уверенным в собственной непогрешимости умом. Парадоксально, но и по-своему закономерно, что, позиционируя себя передовым радикалом, Чернышевский на деле оказывается отстающим, не способным понять новые научные открытия, поскольку они, вероятно, неизбежно пошатнули бы его самоуверенность в решении социальных проблем. Однако стоит заметить, что если взгляды критика на математику уже давным-давно стали фактом истории и потеряли актуальность, то в гуманитарной сфере, в литературоведении и преподавании литературы наблюдается порою явное запаздывание [см.: 3].
Кузнецова в реакции Чернышевского на положения неэвклидовой геометрии усматривает пример «феномена запаздывания» [28, с. 15] общества, не сразу готового принять и осмыслить научные открытия из-за кажущейся несовместимости их со «здравым смыслом». Исследовательница видит важную заслугу Достоевского в том, что он сумел постичь суть «неэвклидовой» геометрии (как полагает Кузнецова, при помощи С.В. Ковалевской), и уже «после великого произведения Ф.М. Достоевского («Братьев Карамазовых». – Ю.С.) и широкая общественность проявила готовность к восприятию новых идей» [28, с. 16].
Однако насколько правомерно писать о такой «вторичности» Достоевского? Полностью ли дело в математических открытиях, и действительно ли они изменили мировидение писателя, ведь истоки его философии гораздо древнее? Еще до возможных разговоров с Ковалевской о математике Достоевский пишет «Записки из подполья», герой которых восстает против «законов» общепринятой науки, хотя еще без ссылки на Эвклида. Более того, в свою очередь Достоевский окажет воздействие на развитие не только философской, но и научной мысли – широко известно признание Эйнштейна в том, что именно Достоевский оказал на него ключевое влияние [см.: 4]. В свете этих соображений более взвешенной представляется позиция целого ряда исследователей, указанных в начале статьи, согласно которой открытия в математике только подтверждали мировоззрение писателя, но не влияли на него.
Интересно, что с развитием математики и философского ее осмысления появляются и новые суждения об «арифметике» Достоевского. Так, В. Губайловский соотносит взгляды писателя с возникшим уже в конце XX века «математическим платонизмом», согласно которому, по определению Р. Пенроуза, «математики действительно открывают истины где-то уже существующие, реальность в значительной степени независима от их деятельности» [7, с. 66–67]. Достоевский, с точки зрения Губайловского, «относится к математическим объектам так же, как Пенроуз, – он принимает реальность бесконечности, он видит треугольник Лобачевского» [7, с. 67], и при этом «стремится к последней строгости и аксиоматической точности в рассуждении» [7, с. 67].
Исследователей интересуют и конкретные числа в творчестве Достоевского [например: 5; 23; 48]. В.Н. Топоров, занявшись статистическим подсчетом чисел в «Преступлении и наказании», нашел их «огромное количество» [49, с. 209]. По мнению исследователя, Достоевский, с одной стороны, подобно Рабле «десакрализует, дисгармонирует архаичные представления об элементах числового ряда» [49, с. 209], но с другой – у него «обнаруживаются и следы мифопоэтической концепции числа» [49, с. 210]. В результате анализа многих числовых рядов в романе Топоров приходит к выводу: «<…> сакральный аспект чисел, противопоставленных профаническим числам, годным лишь для “низкой жизни”, снова возвращает нас к архаичным схемам мышления и, в частности, к практике ритуальных измерений основных параметров мира. И у Достоевского число введено в мир и определяет не только размеры, но и высшую суть его» [49, с. 211; курсив Топорова. – Ю.С.].
Нужно отметить, что проблема связи Богопознания и математики возникла еще задолго до Достоевского: в античные времена ярчайшим ее представителем был Пифагор, в христианской культуре к математическим формулам в их связи с доказательством бытия Божия обращались Фома Аквинский [52, с. 95], Николай Кузанский [33, с. 64–66], Аврелий Августин, Рене Декарт и другие мыслители [см.: 4; 32]. В целом традиция доказательства бытия Бога через незыблемость математических исчислений характерна именно для католицизма. Православию же больше свойственна иррациональность, выход за пределы формальной логики. Показательно, например, что Николай Кузанский – пусть не прямо, но косвенно – выступил против томизма, «вышел за пределы аристотелевской логики, а также космологии и физики» [44, с. 13], именно благодаря тому, что «побывал в православной Византии, где имел возможность читать греческие рукописи и познакомился с неоплатонизмом» [4, с. 34].
Как замечает В. Губайловский, «и Спиноза, и Декарт, и Лейбниц, и Шеллинг предпринимали попытки сведения философского рассуждения к математической форме», но эти пробы, по мнению исследователя, «выглядят не слишком убедительно», в частности, поскольку «объекты, которыми оперируют философы, – содержательны», а «если в доказательство включается содержательная интерпретация, это сразу приводит к парадоксу» [7, с. 54]. Замечено это было уже в XIX веке, но тогда еще не представлялось столь самоочевидным. Так, В.Ф. Одоевский в «Русских ночах» пишет о ложности «искусственных систем, которые, подобно гегелизму, начинают науку не с действительного факта, но, например, с чистой идеи, с отвлечения отвлечения» [34, с. 136; курсив Одоевского. – Ю.С.].
В науке XX века (в том числе в так называемых «точных» науках) наблюдается массовый отход от казавшихся ранее незыблемыми «очевидностей». Например, о. П. Флоренский в работе «Анализ пространственности <и времени> в художественно-изобразительных произведениях» развил «анти-кантовскую» гипотезу Н.И. Лобачевского о том, что «разные явления физического мира протекают в разных пространствах и подчиняются, следовательно, соответственным законам этих пространств» [51, c. 82]. Рассуждая о «кривизне» пространства, Флоренский теоретически обосновал условность известного определения прямой как «кратчайшего расстояния между двумя точками» [см.: 51, c. 81–110].
Об абстрактности, и потому условности, научных «истин» размышляет А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа», говоря о «мифологичности» науки и заявляя, что «мифологична» «не только “первобытная”, но и всякая» [29, c. 45] наука. Так, вся «механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного пространства» [29, c. 45], что Лосев прямо называет «мифологией нигилизма», ибо этот «однородный» ньютоновский мир «абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого мира» [29, c. 45]. «Что это как не черная дыра, даже не могила и даже не баня с пауками, потому что и то и другое все-таки интереснее и теплее и все-таки говорит о чем-то человеческом», – пишет далее Лосев, прямо отсылая к представлениям Свидригайлова о «вечности» [9, с. 221]. Для русского философа открытый Эйнштейном «принцип относительности», помимо прочего, «снова делает возможным <…> чудо» [29, c. 48]. Лосев подчеркивает (выделяя курсивом), что «сущность чистой науки заключается только в том, чтобы поставить гипотезу и заменить ее другой, более совершенной, если на то есть основания» [29, c. 53]. И потому «дело физика показать, что между такими-то явлениями существует такая-то зависимость. А существует ли реально такая зависимость и даже само явление, будет ли или не будет существовать всегда и вечно такая зависимость, истинна она или не истинна в абсолютном смысле, – ничего этого физик как физик не может и не должен говорить» [29, c. 53; курсив Лосева. – Ю.С.].
Ложность подобных построений остро чувствовал и Достоевский. Пожалуй, наиболее известное, провокационное и неоднозначное обращение его к числам – бунт «подпольного» человека против формулы «2х2=4», которая становится эмблемой непреложности неких рациональных «истин». Герой «Записок из подполья» с возмущением опровергает доводы «положительной» науки и «здравого смысла»: «Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь; но если уже всё хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещица» [8, с. 119]. Сам подпольный человек как живой парадокс и нарушение всех рациональных представлений о homo sapiens служит лучшей иллюстрацией принципа: 2х2=5. Противно всякой «бытовой, эгоистической логике» [49, с. 143], которая в мире Достоевского соотносима с «эвклидовым» разумом и рациональным 2х2=4, ведут себя и другие его герои: Прохарчин, Раскольников, Мышкин, Дмитрий Карамазов… Вместе с тем, «“отходя” от Бога», герои Достоевского теряют духовную опору и подпадают под «идейное влияние рассудочного – самую коварную область, где “дважды два – четыре”, где нет чувств, нет веры, а только сухая арифметика “эвклидового разума” – особый дьявольский периметр, дающий уверенность и силу человеку превратиться в мерную единицу “всех вещей в мире”, жить без Бога». [31, с. 232].
Нежелание принимать 2х2=4 за истину в последней инстанции служит прекрасной иллюстрацией реализма «в высшем смысле» Достоевского. Рассматривая отношение писателя к этой формуле, В.Н. Захаров приходит к выводу: «Достоевский отрицал традиционную поэтику, которая основана на непреложности закона “дважды два четыре”. Дважды два пять – один из тех принципов его поэтики, который позволял ему выражать и доводить до читателя заветные идеи, в том числе возглашать осанну в горниле сомнений, утверждать вековечный идеал вопреки “математическим” опровержениям свободы, Бога, Христа» [23, с. 113]. В мире Достоевского 2х2=4 становится символом рациональности; 2х2=5 – тем нарушением очевидности, за которым скрывается иррациональное восприятие мира, вера в Божий промысел о человеке. По сути своей, эта оппозиция имеет глубокие корни в русской культуре и восходит к евангельским представлениям о «ветхом» Законе и новозаветной Благодати. Как отмечает И.А. Есаулов, в христианскую эпоху эта оппозиция пронизывает «все поле европейской цивилизации, однако с особой остротой» [19, с. 8] она проявляется именно в русской культуре. И потому не удивительно, что 2х2=4 подвергалось сомнению и до Достоевского: у И.С. Тургенева, В.Г. Белинского, В.Ф. Одоевского, А.А. Григорьева, Г.Ф. Квитки-Основьяненко [см.: 41].
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

