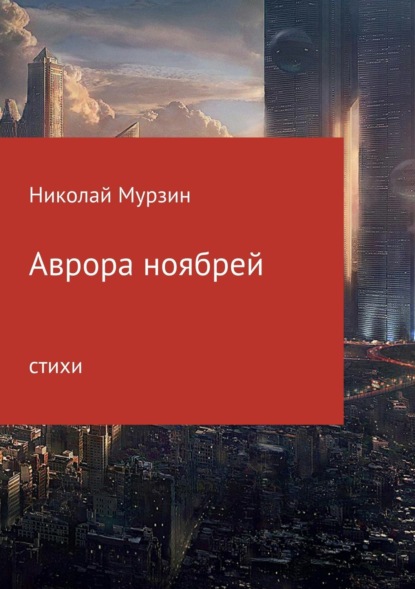 Полная версия
Полная версияАврора ноябрей. Сборник стихотворений
Но мощен в борьбе.
В скраде лесистом,
Царицы минут,
В крапинах, в искрах,
Лисицы бегут.
2
Те, что сзади (мразь от стаи),
Те, что в ссадинах от стали –
Поотстали, подустав.
Те, что были – враз не стали;
Мы ж – и плакать не решались,
Горький воздух – по устам.
Мы отбились, отбежали.
Тарарам и веток треск.
Так нас дурни окружали,
Загоняли глубже в лес.
Их блазнила наша шкурка;
Их обходит их же мурка
По дуге: неровен час.
Эх ты, дурка, чернобурка!
Как повадится к вам урка,
Станет уж не до проказ.
Я, обессилев, дрожу.
В кашле – кровавая пена.
Тихая, тошная муть
В душе: я последний, наверно.
Шаги. Побеждает толпа.
Их женам пойду на уборы.
Мне скоро под ножиком спать
На твердом столе живодера.
Скульптура
Это?!
Безжалостней прочего,
Ясно разверстое нам в осознанье –
«Пьета»
Буонаротти,
Мрачно, громоздко, полично святая?
Со всем злом, что в нас и не в нас,
Мы придем к тебе, принесем
Клятву верности. В добрый час
Преступает порог Содом.
Обнажится для боя Давид.
Голиаф на него нарвется.
С гладкой юношеской щеки
Румянец предателем переметнется
В стан врага – а точней, в лицо,
Покрасневшее до ожога.
Это ли мы назовем отцом –
То, что было в паху до бога?
Прелесть
Неверия отчего,
Гением вбитая в мрамор и знанье!
Ересь
Буонаротти,
Нагие красавцы и пена морская.
В пути
Укачаны и уночены,
Мраком усыновлены,
Спят пассажиры в вагончиках
Поезда, жизни, страны.
Укатаны крутогоркою,
Умчаны прочь во тьму,
Они и во сне, будто гончие,
Бегут, и бегут и бегут.
Здесь можно лежать, расслабившись –
Все за тебя бежит…
Принцессами на горошинах
Состав беспокойно спит.
Кругом плывут, заболочены,
Пространства бесплотней сна –
Но и на них сколочены
Капиталы, что Смит не знал.
Постели весьма укорочены –
Плюгав планировок Прокруст.
Чаю с морошкою хочется
Язычникам мест и уст.
Проснувшиеся фланируют,
Стучатся к проводникам.
Слетается все недочитанное
К пригашенным ночникам.
Все прочие спят расстрелянно,
С прикушенною губой,
Вселенною незаселенной
Объяты – своей судьбой.
Сиротство в телах – бессрочное,
Кто сколько бы ни прожил.
Оставлено вздорное, склочное.
Вернулся к себе пассажир.
И может быть, вспомнит полка:
Лет тридцать назад он лежал
На ней загорелым животиком,
Совсем еще тонок и мал.
Они возвращались с моря.
Мама смотрела в окно,
Как будто в не знающей горя
Стране все же было оно.
А он потерял там машинку;
Опомнился – поздно: ушли.
С тех пор – нарастали морщинки,
И множилась тяжесть земли.
Но нынче, укачан, утрачен,
Утерян во веки веков,
Он снова себе предназначен,
Он снова смуглее песков.
Пусть береговая команда
Лидирует, он – за реванш,
Он принят своим в контр-банду
Океанов и океанш…
Тух-тух. Тух-тутух. Мы не вотще здесь.
Проснулся, нашарил очки.
Ох, мамочки, как мы забегались.
Ох, мамочки, мамочки.
Тух-тух. Тух-тутух. Это – темное:
Прекрасен Тутанхамон,
И смерть, пирамидой огромною
Его стерегущая сон…
О боже, о чем я. И долго ли
Еще до конца. Как я стар.
Вагоны вдруг стали, не дергаясь.
И нежное было как дар.
Состав отдыхал. Но он думал
Уже с нетерпеньем, когда ж
Тот с лязгом, и дрожью, и гулом
Войдет снова в странствия раж.
Как древним китом, им проглочены
Версты и пространства все те,
Что дымом его, как сорочкою,
Оделись в ночной темноте.
И ветлы, как дочери царские,
Стокилометровый саван
Отца, расточавшего ласки им,
Набросят на сталь их охран.
Что делать? Взволнованный путник
Очнулся. Не видно ни зги.
Мы едем четвертые сутки.
Безумеют прямо мозги.
С ним сын – абсолютная копия,
И верхняя полка – его.
В окно брезжат сонные топи им,
Темнит неглубокое дно.
Сын вышел к нему из расселины,
Был выпущен из теснин.
Тогда он сказал: не отселе мы;
Пойдем; ты теперь не один.
Добытый, забытый мальчишечка.
Отец тихо встал, подошел.
Под локтем – забытая книжечка.
Машинку никто не нашел.
И вены его без утаек
Прозрачны, и правда – ясна:
В них плещется кровь голубая
Изгнания, царства и сна.
Дознание
Жизнь – не чистая монета,
Как сказала мать его;
Загулял вчера он где-то –
И не говорит, с чего.
Может, было хулиганство –
Но по мелочи, чуть-чуть,
Может быть, вчера, на танцах,
Он потрогал чью-то грудь.
Но совсем безумьем будет
Заподозрить, что не так
Он устроен, как все люди…
Он привычно ждет атак,
Он устало ждет расспросов,
Недомолвок и грозы –
И скрывает, свеж и розов,
Знак любви он, точно сыпь.
Непонятно – то ли знает
Что-то мама, то ли нет,
То ли рылась по карманам,
То ли поднялась чуть свет,
Чтоб, на кухне прибираясь,
Вдруг решительно дойти
До всего, что сын скрывает,
В чем сокрытия мотив.
Вот ведь черная задача –
Сомневать родную кровь,
И тайком по капле плача,
Память мучить вновь и вновь:
Вот он поздно возвратился,
Вот он заперся, молчит,
Вот он слишком долго мылся,
Вот он тих с утра, прибит,
Вот он счастлив – но так странно!
Открывает на звонок.
Словно страстью слишком рано
Сорван был его листок.
Словно деревце нагое,
Все отдавшее ветрам,
Он стоит перед зимою,
Будто схвачен кем-то там.
Кто там? Кто там? Кто крадет нас?
Кто стучится в двери к нам?
Чьей свечою пол закапан
По утрам и вечерам?
Тьма в подъезде. Сына абрис
Виден ей лишь искоса.
И ледовее декабря
К ней доносит голоса.
Шепчет кто-то: «я тебя…», и
К дозволившему рука,
Как утопленница к сваям,
Прибивается, легка.
Кто-то вынырнул из тени
И обнял, к себе прижав,
И ласкает грудь и шею,
Губы мятою обдав.
Разве сын ее – так может?
Кто там, с ним? И сам он – кто?
Застывает зритель в ложе
Наиближе к сцене той.
Но кончается вдруг морок.
За окном – светло и май.
Все сияет от уборки,
Прям хоть на пол накрывай.
Все на кухне. Угощенье,
Дружный смех и разговор.
Может, скрытое смущенье
И томит их до сих пор –
Но отправлен в староселье
Страх. И друг его так мил.
И взрывается веселье
Вдруг, в избытке юных сил.
Россия
1
Ждем ясного неба, как манны от бога,
Как будто промотано наше наследство,
И нам бы сейчас не красивого слога,
А знака, и вести, и добрососедства.
Поверь, лучше вовсе бы не сомневаться,
Что есть это «мы», пусть темно и условно.
Кто дернул нас тысячей лет собираться
В видении, слишком для мира огромном?
Печаль – это только привычка быть правым.
Ненужные аду, тем более – небу,
Друзья, мне мерещится: руки кровавы,
Друзья, я пугаюсь: глаза наши слепы.
О, ужас. Наверное, где-то ошибка.
Но скрылся давно поворот незаметный
Туда, где любовь, обещанье, улыбка –
И темен твой путь, и лицо твое бледно,
Россия, умора поэтов и света
Одно угасанье, одно отрицанье.
Сивилла какая ответит на это,
Что есть и на долю твою прорицанье?
Но кто и когда раскрывал этот свиток,
Слезами и горем над ним не истекши?
И вот он по-прежнему нами не читан,
И в кладке темничной не видно и бреши.
Наверно, так надо. Ждем яви и хлеба,
И львиного сына седьмого колена…
Но тьма над могилой Бориса и Глеба,
И руки по-прежнему окровавленны.
2
А впереди по дороге – потьмы,
А погоди… – и нагонит печаль.
Тихо любились под вечер мы,
Вместе ходили зарю встречать.
Но облетел наш нечаянный сад,
И нагота его – кожа да кости;
Мы же оделись – так невпопад,
Так торопливо, как будто мы гости,
А не хозяева в доме любви,
А не святые последнего зова,
Годные пролитой Богом крови,
Родные этому светлому крову.
…А впереди по дороге – потьмы,
А погодишь – и нагонит печаль.
Если бы крепли, как дерево, мы,
А не под молотом, а не в сталь.
Выпорот внучек и вырублен сад.
Мы обленились быть вспышкою света.
Проще туман, и замглевший закат,
Проще рассеяться в воздухе этом.
Последние владыки
Если вправду будет мир разрушен,
Как нам обещали мудрецы –
Мы с тобою на лесной опушке
Сбросим в траву мантии, венцы.
Чернь кустов сорвет с нас шелк сорочек,
Золото забросит в озерко…
У огня не требуют отсрочки,
И не быть живым – его рукой.
Да и нужно ль нам с тобою править
Миром, обреченным полыхать?
Лучше нам дворцы свои оставить,
Чем закат их огненный застать.
Нас приветит скрытая тропинка
Детства, что успели мы забыть;
Мы вернемся в мир до поединка,
В коем победила мысли прыть.
Там мы проживем обман вечерний,
Выданный за утренний обман,
Где холмами, безымянной стерней,
Мир уходит в тишь и за туман.
Ну а коль и впрямь благословенны
Все начала мира и концы –
Будьте в звездной памяти нетленны,
Наши вздохи, кудри и венцы.
Табло
Бегущая строка, тебя хочу воспеть!
Ты – чудо наших дней, дрожанье вспышек света;
Ты дозволяешь нам не опоздать, успеть,
Указывая путь по нашему билету.
Одна из сотен нимф, одна из многих муз,
Сомкнувшихся вокруг потерянного бога,
Ты Гефсиманский сад и чаша бледных уст
Для всех, кто навсегда усыновлен дорогой.
Вокзальный Аполлон не менее любим
Источником зарниц, влекущих к горизонту;
На медленном огне твоих вестей томим,
Он объявленья ждет прожекторного солнца.
Небесных колесниц маршрут превыше крыш –
Но он пока к земле прикован, и неловок,
И падает дух ниц, когда ты говоришь,
Что поезд отменен, что нету остановок.
Но падает один, чтобы воспрял другой;
Аркадою прыжков он достигает цели.
И задан сердца ритм бегущею строкой,
И пункт назначен: рай и воскрешенье в деле.
Но если вдруг табло, понурившись, стоит,
И мертв экран его, и запорошен снегом –
Нас поглощает страх, и погребальный стих
Звучит, как будто мир оставлен человеком.
За черными шторами
Мой век – октябрь, братская могила
И сокрушенье: о, зачем все вы.
Ни пастыри, ни уроженцы Нила,
Ни блещущее племя синевы.
Но что мне с вами ссориться? Все было.
Я ополчался словом, бил в лицо.
Сносили гнев стихий сынки-дебилы
Известной подлостью прославленных отцов.
И вновь сарай отстроен простодушный,
Где жить им будет легче и с руки;
Он ледяной зимой, а летом душный –
Но что парилка им, что сквозняки.
Здесь наверху все то же, что внизу,
И боги этих мест – друзья отребью;
Они вдвоем вершат великолепье
Родной страны, пока я прочь ползу.
И если кто иной им тут и мил,
Он во всю пасть воспет как победитель;
Тщедушен стог, и сенокос уныл,
И что намыто, остается в сите.
Я ошибался, думая: весна,
Как будто радость стиховозвращенья
Заменит ту, что злобе не дана,
В чьем дребезге – валькирий лет весенний.
Угадано священное ничто
За линькою дощатых новоделов.
И все, что пело нам, давно допело.
И только промельк в колыханье штор
Указывает: кто-то все же здесь –
Следит за нами, прячется обратно…
А в поездах – гремит иная песнь
Под зев, и гам, и бодрый чих стройбата.
И мой наследник, хоть он и утерян –
А может быть, от лиха утаен –
Внимает ей, трубящей пробужденье
По клетям всех пространств и всех времен.
И страшно подумать, откуда
Доносится эта песнь,
Какая вдали подруга
У этого мальчика есть.

