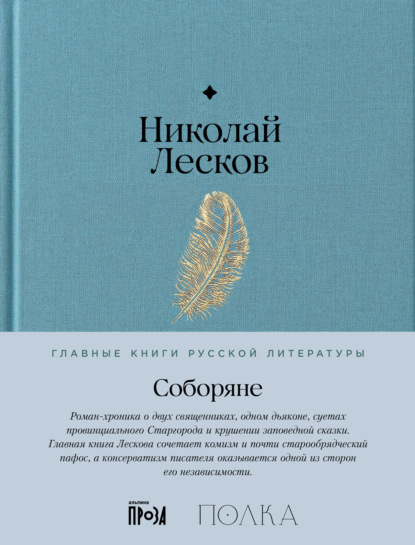
Полная версия:
Соборяне
Человек со странной, на слух старгородских обывателей, фамилией Термосесов приезжает в Старгород вместе с ревизором – петербургским князем Борноволоковым. Термосесов – секретарь князя, но играет куда более важную роль, чем его патрон. Лесков утрирует ситуацию гоголевского «Ревизора»: Термосесов – это Хлестаков 1860-х годов, мнимый ревизор при настоящем, но, в отличие от Хлестакова, циничный, опасный и злонамеренный.
Сходство с гоголевским героем Лесков подчеркивает: например, Термосесов пишет письмо несуществующему приятелю, чтобы проверить, действительно ли почтмейстерша вскрывает письма. Термосесовское письмо с издевками над старгородским обществом устроено по образцу послания Хлестакова «душе Тряпичкину». Но этим дело не ограничивается. Сам бывший нигилист («по какой-то студенческой истории в крепости сидел»), Термосесов знает, что Борноволоков в молодости входил в круги революционеров, и шантажирует его, ожидая случая как-то проявить себя (по собственному признанию, он предлагал себя и в шпионы, но «с нашим нынешним реализмом-то уже все эти выгодные вакансии стали заняты»). Борноволоков вынужден подписать донос на протопопа Туберозова, который ни ему, ни Термосесову ничего плохого не сделал. При этом, как ни странно, «в Термосесове была даже своего рода незлобивость… <…> …каждый человек выскакивал пред ним, как дождевой пузырь или гриб, именно только на ту минуту, когда Термосесов его видел, и он с ним тотчас же распоряжался и эксплуатировал его самым дерзким и бесцеремонным образом» – «темный» вариант хлестаковского легкомыслия.
Обладая травестийно уродливой внешностью («При огромном мужском росте у него было сложение здоровое, но чисто женское: в плечах он узок, в тазу непомерно широк; ляжки как лошадиные окорока, колени мясистые и круглые; руки сухие и жилистые; шея длинная, но не с кадыком, как у большинства рослых людей, а лошадиная – с зарезом[51]; голова с гривой вразмет на все стороны; лицом смугл, с длинным, будто армянским носом и с непомерною верхнею губой, которая тяжело садилась на нижнюю»), он моментально влюбляет в себя глупую чиновницу Бизюкину (лесковский вариант тургеневской Кукшиной). Бизюкина, ожидая важных гостей, строит из себя нигилистку, делает вид, будто обучает грамоте крестьянских детей, и сообщает прислуге, что всех господ скоро «топорами порежут». Термосесов высмеивает все ее благие помыслы: «Да, и на кой черт она нам теперь, революция, когда и так без революции дело идет как нельзя лучше на нашу сторону» – а под шумок ворует у нее бриллиантовое колье. Все это совпадало с лесковскими воззрениями на нигилистов конца 1860-х, уже не Базаровых и Рахметовых, а «просто мошенников», не верящих ни в какие идеалы.
Таким образом, Термосесов – еще один типичный для лесковской прозы возмутитель спокойствия: инфернальная внешность, аморальные поступки, тяга к наживе – ни дать ни взять сегодняшняя пропагандистская карикатура на либерала. Важно, что этот персонаж – «мелкий бес»: его трикстерство выражается, например, в такой записи в дамском альбоме:
На последнем сем листочкеПишем вам четыре строчкиВ знак почтения от нас.Ах, не вырвало бы вас?Лесков здесь пародирует типичную альбомную запись XIX века: «На последнем я листочке / Напишу четыре строчки / В знак дружества моего, / Ах, не вырвите его».
Но не менее важно, что этот «мелкий бес», соединив свои усилия с такими же, способен погубить людей добрых и, казалось бы, крепко стоящих на земле. Он заставляет Борноволокова отправить донос на протопопа Туберозова – после этого священника запрещают в служении, и вскоре протопоп умирает. Несмотря на то что и на Термосесова есть проруха (поступив в тайную полицию, он «стал фальшивые бумажки перепущать и… в острог сел»), нанесенный им вред непоправим.
«СОБОРЯНЕ» – ТО КОМИЧЕСКАЯ ИДИЛЛИЯ, ТО ВЫСОКАЯ ТРАГЕДИЯ. ПОЧЕМУ ТАК?«Соборяне» начинаются как идиллия, вполне в гоголевском духе (можно вспомнить начала «Тараса Бульбы» и «Старосветских помещиков») – и до поры до времени регулярно сворачивают на идиллическую дорогу. Например, в первой части шестой главы неожиданно начинается какой-то готический ужас: описываются приходящие к берегам реки страшные и загадочные фигуры. Немного погодя выясняется, что это просто купальщики, привыкшие освежаться на рассвете. В этом эпизоде, кстати, завязывается один из узелков будущего конфликта: лекарь шутя просит дьякона Ахиллу объяснить, где у него астрагелюс, а Ахилле в этом латинском названии щиколотки слышится что-то ужасно неприличное. Безобидный «астрагелюс» действует на него так же, как слово «гусак» на Ивана Ивановича из гоголевской повести.
Однако фигура протопопа Туберозова неуклонно меняет лесковский тон: несмотря на обилие комических деталей, к концу «Соборяне» все ближе к житию и все торжественнее звучит авторский голос, разговаривающий с читателем будто из-за стены повествования. Вот, например, слова о дьяконе Ахилле, который кается в кратком помутнении веры:
Над Старым Городом долго неслись воздыхания Ахиллы: он, утешник и забавник, чьи кантаты и веселые окрики внимал здесь всякий с улыбкой, он сам, согрешив, теперь стал молитвенником, и за себя и за весь мир умолял удержать праведный гнев, на нас движимый!
О, какая разница была уж теперь между этим Ахиллой и тем, давним Ахиллой, который, свистя, выплыл к нам раннею зарей по реке на своем красном жеребце!
Тот Ахилла являлся свежим утром после ночного дождя, а этот мерцает вечерним закатом после дневной бури.
Следующая вскоре за этим кончина Туберозова и вовсе не оставляет места для комико-идиллических нот: герои разговаривают друг с другом торжественно, почти по-церковнославянски, утверждая высшую справедливость всего произошедшего. Так же торжественны сцены, в которых Ахилла читает над протопопом заупокойные молитвы – и получает видение: «В ярко освещенном храме, за престолом, в светлой праздничной ризе и в высокой фиолетовой камилавке стоит Савелий и круглым полным голосом, выпуская как шар каждое слово, читает: «В начале бе Слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово». Первые слова Евангелия от Иоанна приближают усопшего протопопа к самой вершине, к Божию престолу, к первоначалу вещей, о котором он еще недавно толковал с дьяконом. Ревность Ахиллы к памяти покойного протопопа переходит все возможные границы: ничего не делая наполовину, дьякон до самого конца обладает страстью неофита. Он как будто «очарован», если воспользоваться лесковским словом.
Все это опять же можно сравнить с эволюцией Гоголя, который из комика задумал сделаться христианским проповедником. (Филолог Валентин Хализев подтверждает, что «наиболее важным “источником” лесковской темы праведничества был поздний Гоголь»[52].) Только у Лескова одно намерение переходит в другое плавно, в рамках одного произведения, как часть замысла. И для соблюдения стилистического баланса Лесков завершает «Соборян» последним подвигом Ахиллы – опять-таки в духе Гоголя, но Гоголя раннего, времен «Диканьки»: Ахилле удается поймать переодетого «черта», в шубе и с рогами, который оскверняет памятник Туберозову. Этот подвиг стоит Ахилле жизни – он (новая смена интонации) подхватывает горячку и умирает «в агонии не столько страшной, как поражающей». В предсмертном бреду ему удается победить какого-то «огнелицего» врага. Этот последний аккорд окончательно убеждает, что «Соборяне» – не идиллия, не комедия, не трагедия, а полифоническое произведение, все повороты которого объединены будто бы нейтральным авторским определением жанра: хроника.
ПОЧЕМУ «СОБОРЯНЕ» – НЕ РОМАН, А ХРОНИКА?Исследователи часто называют «Соборян» романом или романом-хроникой, но сам Лесков определял жанр однозначно как хронику. В одной из промежуточных редакций у будущих «Соборян» был подзаголовок «Повесть лет временных», прямо отсылающий к древнерусской летописи. В отличие от романа, хроника доводит дела до конца, длится и после кульминации: ее дело – не оставить неразрешенной ни одну сюжетную линию. «Хроника должна тщательно сберечь последние дела богатыря Ахиллы – дела, вполне его достойные и пособившие ему переправиться на ту сторону моря житейского в его особенном вкусе», – пишет Лесков.
«Хроника – это прежде всего отказ от крепкой и ясной интриги: повествование начинает виться прихотливой лентой… как бесконечная непредсказуемая нить», – пишет Лев Аннинский[53]. Другие исследователи отмечают, что лесковская хроника – «особый тип повествования, когда смысловым центром оказывается не сюжет, а сама поступь исторического времени, и рамки, в которых изображается человеческая жизнь, раздвигаются до вселенских границ»[54]. Иными словами, главный предмет «Соборян» – смена времени: уход «старой сказки» в лице двух священников-праведников и дьякона-богатыря и «полное обновление» – появление новых лиц, которые более соответствуют изменившемуся времени. Мировая литература знает такие тексты о болезненном крушении старого и дерзком, иногда наглом наступлении нового. Примеры такого эпоса, который завершается собственными похоронами, – «Беовульф», «Смерть Артура» Томаса Мэлори, «Виконт де Бражелон» Дюма.
ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ РЕДАКЦИИ «СОБОРЯН»?До окончательного варианта «Соборян» существовали еще три неоконченные редакции: две печатные и одна рукописная. Несмотря на общность сюжетной канвы, в них много текстуальных различий – особенно от итогового варианта отличается первая редакция – «Чающие движения воды». Здесь Савелий Туберозов еще не главный герой, а больше всего внимания уделено почти исчезнувшей из «Соборян» линии Константина Пизонского, да и другие герои, в «Соборянах» третьестепенные, здесь действуют наравне с Савелием, Ахиллой и Захарией. «Хроникальность» замысла чувствуется здесь особенно сильно: Лесков прослеживает от древнейших времен историю Старгорода (в этой редакции – Старого Города) и особенно историю в нем старообрядчества, которое его глубоко волновало. Неприятности в «Отечественных записках» совпали с разочарованием Лескова в первоначальной идее хроники.
Следующая попытка называлась «Божедомы» и была уже гораздо ближе к роману «в точном, тесном смысле этого слова: истории лиц»[55]. Здесь протопоп Савелий – на первом плане; здесь пространнее и полемичнее его дневниковые записи, явно отображающие мысли самого Лескова. В этой редакции оседает большинство непосредственных реакций Лескова на современную ему журнальную полемику либералов и консерваторов[56]. Текст «Божедомов» (по крайней мере сохранившийся рукописный вариант) оканчивается не смертью протопопа и всего старгородского священства, а только началом его опалы, которую он бестрепетно принимает:
Протопоп молчал: ему мнилось, что жена его слышит, как в глубине его души чей-то не зависящий от него голос проговорил: «теперь жизнь уж кончилась и начинается житие».
Туберозов благоговейно принял этот глагол, перекрестился на освещенный луною крест собора, и телега по манию жандарма покатила, взвилась на гору и исчезла из виду.
В итоговой версии «Соборян» слова о жизни и житии вслух произносит – не без гордости – сам протопоп. Впрочем, в начале «Божедомов» Лесков указывает, что его герои уже умерли:
Все вы, умершие в надежде жизни и воскресения, герои моего рассказа: ты, многоумный отец протопоп Савелий Туберозов, и ты, почивающий в ногах его домовища, непомерный дьякон Ахилла, и ты, кроткий паче всех человек отец Захария, – ко всем вам взываю я за пределы оставленной вами жизни: предъявите себя оставленному вами свету земному в той перстной одежде и в тех стужаниях и скорбях, в которых подвизались вы, работая дневи и злобе его.
Окончательный авторский вариант хроники не начинается с такого патетического вступления – Лесков приступает к рассказу гораздо проще: «Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки. Это – протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. Годы ранней молодости этих людей, так же как и пора их детства, нас не касаются…» Торжественный тон станет доминировать в «Соборянах» только к финалу.
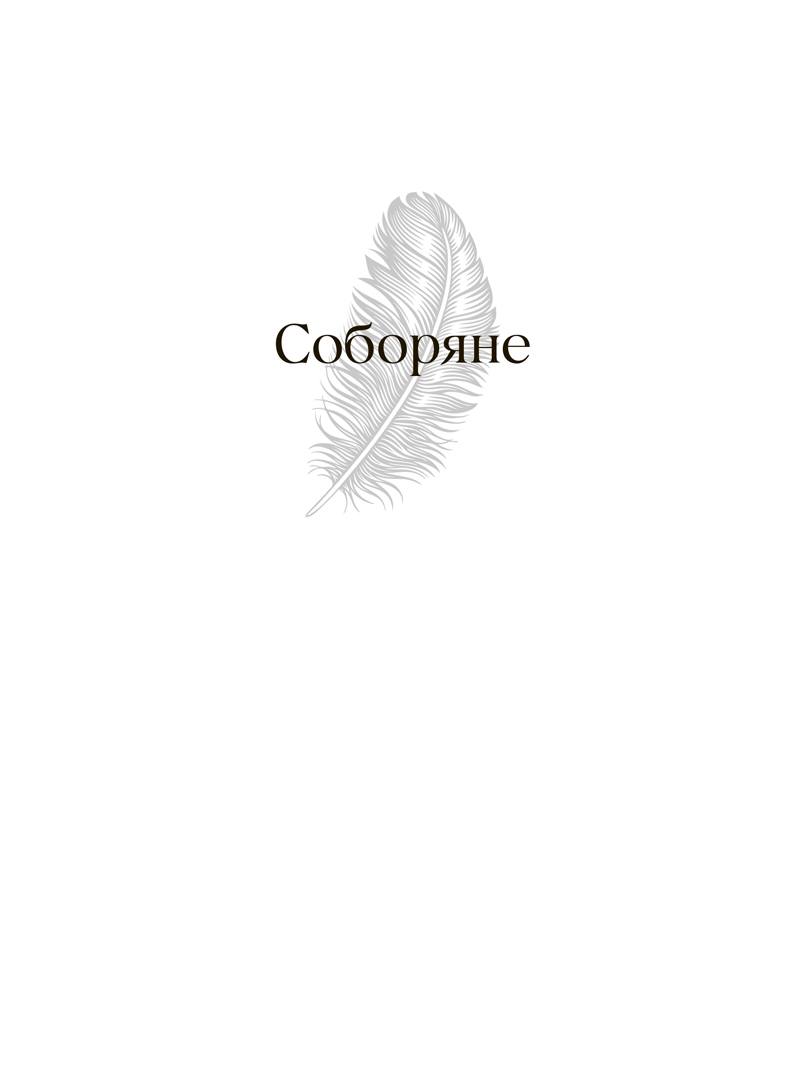
Часть первая
Глава первая
Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки. Это – протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. Годы ранней молодости этих людей, так же как и пора их детства, нас не касаются. А чтобы видеть перед собою эти лица в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу старогородского духовенства, протоиерея Савелия Туберозова, мужем уже пережившим за шестой десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен. В таком же состоянии и душевные его силы: при первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной раздвоенной бороде отца протопопа и в его небольших усах, соединяющихся с бородой у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих ей вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца протопопа совсем черны и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую он, в своем христианском уповании, верил быти бессмертною.
Захария Бенефактов, второй иерей Старгородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает места и его крошечное тело и как бы старается не отяготить собою землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Две маленькие букольки серо-желтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышиный хвостик. Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашки своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. По летам отец Захария немножко старше отца Туберозова и значительно немощнее его, но и он, так же как и протопоп, привык держаться бодро и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу и телесную подвижность.
Третий и последний представитель старогородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые будет нелишним здесь привести все, дабы при помощи их могучий Ахилла сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.
Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтаксического класса за «великовозрастие и малоуспешие», говорил ему:
– Эка ты дубина какая, протяженно сложенная!
Ректор, по особым ходатайствам вновь принявший Ахиллу в класс риторики, удивлялся, глядя на этого слагавшегося богатыря и, изумляясь его величине, силе и бестолковости, говорил:
– Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров.
Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из риторики и зачислении на причетническую должность, звал его «непомерным».
– Бас у тебя, – говорил регент, – хороший, точно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, так что чрез эту непомерность я даже не знаю, как с тобой по достоинству обходиться.
Четвертое же и самое веское из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался «уязвленным». Здесь будет уместно рассказать, по какому случаю стало ему приличествовать сие последнее название «уязвленного».
Дьякон Ахилла от самых лет юности своей был человек весьма веселый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности: мы увидим, знал ли он им меру и к годам своей приближающейся старости.
Несмотря на всю «непомерность» баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и самого залетного верха́ и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это – «увлекательностью». Так он, например, во всенощной никак не мог удержаться, чтобы только трижды пропеть «Свят Господь Бог наш», а нередко вырывался в увлечении и пел это один-одинешенек четырежды, и особенно никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые потому можно было предвидеть, против «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались меры предосторожности, избавлявшие от всяких напастей и самого дьякона и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи. Но недаром сложена пословица, что на всякий час не обережешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли совсем уберечь от них, и он самым разительным образом оправдал на себе то теоретическое положение, что «тому нет спасения, кто в самом себе носит врага». В один большой из двунадесятых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма хитрое басовое соло на словах: «и скорбьми уязвлен». Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушало Ахилле много забот: он был неспокоен и тщательно обдумывал, как бы ему не ударить себя лицом в грязь и отличиться перед любившим пение преосвященным и перед всею губернскою аристократией, которая соберется в церковь. И зато справедливость требует сказать, что Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по своей комнате, то по коридору или по двору, то по архиерейскому саду или по загородному выгону, и все распевал на разные тоны: «уязвлен, уязвлен, уязвлен», и в таких беспрестанных упражнениях дождался наконец, что настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое «уязвлен» пред всем собором. Начался концерт. Боже, как велик и светло сияющ стоит с нотами в руках огромный Ахилла! Его надо было срисовать – пером нельзя его описывать… Вот уже прошли знакомые форшлаги, и подходит место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло «уязвлен» и, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку… Ахилла позабыл весь мир и себя самого и удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает: «И скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-н, уязвлен». Силой останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в «увлекательной» голове Ахиллы, и среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящею к его благословению аристократией, словно трубный глас с неба с клироса снова упал вдруг: «Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н». Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают – он поет; его осаживают вниз, стараясь скрыть за спинами товарищей, – он поет: «уязвлен»; его, наконец, выводят вон из церкви, но он все-таки поет: «у-я-з-в-л-е-н».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зерновой. – Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2014. – C. 494.
2
То есть дебютного романа Лескова в антинигилистическом духе, из-за которого перед писателем закрылись двери «прогрессивных» редакций.
3
Большой запрестольный серебряный крест. Из альбома фотографий Супрасльского Благовещенского монастыря. 1870–1880-е годы. Библиотека Вильнюсского университета.
4
Либрович С. Ф. В гостях у автора «Соборян» // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. – С. 396.
5
Ильинская Т. Б. Комментарии // Лесков Н. С. Соборяне: Хроника: Роман в пяти частях. В 2 кн. / Ст. и коммент. Т. Б. Ильинской. – СПб.: Пушкинский Дом, 2018. Кн. 2. – C. 40.
6
Шелковая риза с украшениями из бархата. Из альбома фотографий Супрасльского Благовещенского монастыря. 1870–1880-е годы. Библиотека Вильнюсского университета.
7
Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954) – литературовед, богослов, театральный критик. С 1906 по 1917 год совершил ряд этнографических поездок по Русскому Северу, после которых сформулировал тезис о граде Китеже как основании русской духовной культуры. Был секретарем Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева. После революции переехал в Сергиев Посад и был рукоположен в священники. В 1922-м Дурылина арестовали и отправили в ссылку в Челябинск. После возвращения работал театральным критиком, преподавал в ГИТИСе.
8
Аким Львович Волынский (1861–1926) – литературный критик, искусствовед. С 1889 года работал в журнале «Северный вестник», с 1891-го по 1898-й был главным редактором издания. В 1896 году опубликовал книгу «Русские критики». Писал мемуарные очерки о Гиппиус, Михайловском, Сологубе, Чуковском. После революции заведовал итальянским отделом в издательстве «Всемирная литература» и петроградским отделением Союза писателей.
9
Дмитрий Владимирович Философов (1872–1940) – публицист, литературный критик. Служил в Императорской Публичной библиотеке в Петербурге, заведовал литературным отделом журнала «Мир искусства», выпускавшегося Дягилевым, двоюродным братом и любовником Философова. После разрыва с Дягилевым сблизился с Мережковским и Гиппиус, заключив с ними своеобразный мистический брак. Участвовал с ними в Религиозно-философских собраниях, работал в журнале «Новый путь». Вместе с семейной парой уехал жить в Париж. В 1908 году вернулся в Россию, после революции опять уехал и присоединился к антикоммунистическому сопротивлению, был соратником эсера Савинкова, жил в Польше.
10
«Санин» Арцыбашева был одним из самых скандальных романов своего времени: Арцыбашев включил в него весьма смелые эротические сцены, а в уста своего героя вложил проповедь ницшеанского гедонизма.
11
Фотография Уильяма Каррика. Из серии «Русское духовенство». Конец XIX века. Из открытых источников.
12
Аннинский Л. А. «Русский космос» Николая Лескова // Лесков Н. С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Соборяне. На краю света. Мелочи архиерейской жизни. – М.: АО «Экран», 1993. – С. 21.
13
Лесков имеет в виду христиан, не принадлежащих официальной православной церкви.
14
Ильинская Т. Б. Указ. соч. – C. 23.
15
Мценск. Начало XX века. Один из возможных прообразов Старгорода. Из открытых источников.
16
Берёзкина Е. П. «Соборяне» Н. С. Лескова (К проблеме евангельских мотивов) // Литература и религия: проблемы взаимодействия в общекультурном контексте. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского ун-та, 1999. – С. 57–62.
17
Консистория – орган управления Русской православной церкви. Учреждался в каждой епархии и подчинялся епархиальным архиереям. Духовная консистория рассматривала дела о богохульстве, незаконных браках, разводах, похищении церковного имущества и др. В случае апелляционных жалоб дела передавались в Синод.

