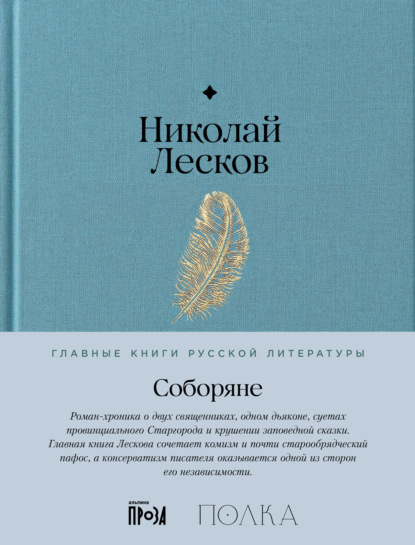
Полная версия:
Соборяне
Хотя, конечно, возможно и другое суждение о протопопе Туберозове. Благопристойное и полное здравого смысла. Подобно тому, как Дон Кихота объявляли сумасшедшим, один из героев «Соборян» в лицо называет протопопа маньяком.
Кстати, это одно из первых употреблений слова «маньяк» в русской литературе: за несколько лет до Лескова его употреблял Герцен, перед которым Лесков когда-то преклонялся, а одновременно с Лесковым – Достоевский в «Бесах».
ПОЧЕМУ У ГЕРОЕВ ТАКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ ФАМИЛИИ И ЧТО ОНИ ЗНАЧАТ?Говорящие имена – частый прием у Лескова. Имя главного героя «Соборян» Савелия Туберозова – сочетание «Савла» (не первого имени апостола Павла, а святого мученика Савла Персиянина[27] – страдания ждут и его лесковского тезку) и типичной семинарской фамилии: в духовных училищах вновь прибывшим часто нарекали новые фамилии в честь церковных праздников, «высоких свойств духа», символически значимых для христианства цветов и плодов и т. д. Подробностей о таком наречении полны бурсацкие воспоминания. Ночной цветок тубероза, как считает комментатор «Соборян» Татьяна Ильинская, может указывать на «ночные бдения Туберозова над его дневником», сам выбор цветка – на его «способность отзываться на красоту»[28]. Имя Захарии Бенефактова – тоже «говорящее»: исследовательница лесковской ономастики Виктория Вязовская связывает его с Захарией из Нового Завета (этот святой, отец Иоанна Крестителя, не поверил, что у его престарелой жены Анны родится сын, за что Бог временно наказал его немотой; «заикается перед старшими» и лесковский Захария)[29]. Семинарская же фамилия Бенефактов означает «делающий добро». Наконец, и имя, и фамилия дьякона-богатыря Ахиллы Десницына связаны с мотивом силы: этот герой, хоть и назван в честь преподобного Ахилы Печерского, гораздо больше похож на древнегреческого Ахилла.
Имена и фамилии других героев также значимы: к семинарскому образованию и пародийно понятому могуществу отсылает имя учителя Варнавы Препотенского; явно комичным – по несоответствию персонажу – выглядит имя исправника[30] Воина Порохонцева; по наблюдению исследовательницы Ольги Красниковой, имя и отчество Марфы Андреевны Плодомасовой подчеркивает ее характер (Марфа – «хозяйка», «госпожа», Андрей – «мужественный»)[31]. Даже в имени исправничьего слуги Комаря исследователи усматривают отсылку к диалектному обозначению муравья[32] – таким образом Лесков подчеркивает трудолюбие этого персонажа.
А вот фамилии двух главных отрицательных героев «Соборян» – князя Борноволокова и его секретаря Измаила Термосесова – трактуются не так однозначно. Обе фамилии, как пишет Ильинская, не выдуманы Лесковым, «хотя и исключительно редки»[33]. Фамилия первого происходит от слова «борноволок», то есть юноша, «правящий лошадью в бороньбе», или растение пырей, «коего долгие коренья вязнут в борозде» (из словаря Даля); второе толкование, пожалуй, вернее, поскольку появление князя оказывается роковым событием для старгородского духовенства. А Термосесов – русифицированная армянская фамилия Тер-Мовсесян. У Термосесова действительно «будто армянский нос», а вдобавок армянские фамилии с приставкой «Тер–» были священническими. Это немаловажный штрих: как и многие нигилисты-революционеры, Термосесов происходит из духовенства (что подтверждается, когда он произносит классическую семинарскую угрозу: «Я тебе, бездельнику, тогда всю рожу растворожу, щеку на щеку помножу, нос вычту и зубы в дроби превращу!»). Двойственность духовенства, которое само взращивает в себе своих врагов, – важная тема для Лескова.
ПОЧЕМУ ЛЕСКОВ СДЕЛАЛ СВОИХ СОБОРЯН ТАКИМИ РАЗНЫМИ?Тройственность в системе персонажей – черта не только «Соборян»: по наблюдению Льва Аннинского, той же схемой Лесков пользуется в рассказе «На краю света»[34]. Разумеется, такая тройственность – отсылка к фольклору, к сакральному значению числа 3, столь важному для «старой сказки», с которой Лесков сопоставляет еще не погибший мир старгородского духовенства. Важна не только тройственность, но и то, что три главных персонажа – Савелий Туберозов, Ахилла Десницын и несколько теряющийся на их фоне Захария Бенефактов – воплощают совершенно разные качества, которыми богато русское священство. Причем речь не только о достоинствах, но и о недостатках. Савелий мудр, готов страдать и яро бороться за веру – но в своей борьбе горделив; Ахилла простодушен и истово верует, но ни в чем не знает меры и удержу; Захария добр и кроток – но почти что бесхарактерен.
Разность характеров лесковских героев подчеркивается разностью их жилищ: дом отца Туберозова – маленький, красивый, чистый, крепкий и украшенный резьбой, дом отца Бенефактова – большой и не слишком опрятный из-за того, что в нем множество детей (Бенефактов многочаден, Туберозов бездетен); дом Ахиллы – «мазаная малороссийская хата» с аскетическим убранством (Ахилла происходит из малороссийских казаков). Работает на ощущение разности и разнообразия этих характеров и речевая характеристика – торжественная и патетическая речь Туберозова противопоставлена народной, часто панибратской и уж совсем не книжной речи Ахиллы.
Вообще описания Ахиллы (насчет которого Лесков справедливо опасался, что он перетягивает на себя читательское внимание) заставляют вспомнить еще один фольклорный жанр – былину. Ахиллу, обладающего недюжинной силой, Лесков часто называет богатырем, и, если сравнивать его с былинными богатырями, лучше всего подойдет Алеша Попович – младший из всех богатырей, часто неразумный и склонный к горячности. Ахилла может, например, принять участие в сельском балагане, ввязаться в кровопролитие из-за ягод калины, отомстить духовному цензору, «привязав его коту на спину колбасу с надписанием: «Сию колбасу я хозяину несу» и пустив кота бегать с этою ношею по монастырю». Ахилла способен, исчерпав аргументы, посадить оппонента на высокий шкаф и даже начать утверждать (соблазнившись беседами с петербургскими «литератами»), что Бога нет, – и все это совершенно искренне. Прозвище Попович вдобавок указывает на происхождение из духовенства. Впрочем, как раз Алеша Попович не отличается физической силой – это качество у Ахиллы от кого-то из других русских богатырей. Кстати, с витязем, «ратаем веры», в знаменитой сцене грозы сопоставляет себя и Туберозов[35].
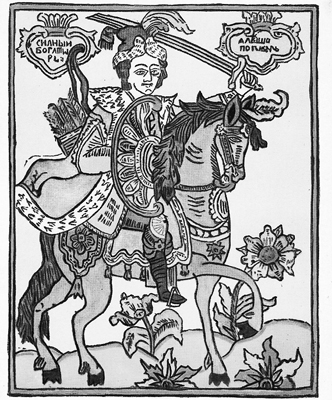
Сильный богатырь Алеша Попович. Гравюра на дереве. XVIII век[36]
ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОРОД СТАРГОРОД?
Само название «Старгород» (он же Старогород и Старый Город – в тексте есть вариации) уже говорит о лесковской установке на консерватизм, на «особую поэзию старины и старинного патриархального уклада»[37]. В первом варианте «Соборян» – «Чающие движения воды» – есть подробное описание Старгорода с «узкими улицами, типической русской постройки домами» и указано, что со стороны город похож на «волшебный городок Гвидона» из пушкинской «Сказки о царе Салтане». Из более поздних редакций это описание пропало. Как замечают комментаторы Лескова, идеализированный Старгород – один из часто встречающихся в русской литературе «сборных городов» (по слову Гоголя). У него нет отчетливого прообраза, хотя некоторые черты роднят его с Орлом, в котором Лесков жил, и Мценском, в котором он бывал (вспомним гораздо более мрачную «Леди Макбет Мценского уезда»). В «Соборянах» сказано, что Старгород стоит на реке Турице. В России есть две реки с таким названием, но ни одна из них не протекала через Орловскую губернию.
Спустя больше чем полвека название Старгород у Лескова позаимствуют для «Двенадцати стульев» Ильф и Петров. В их Старгороде будет царить уже не идиллическое благолепие, а провинциальная суета.
ПОЧЕМУ «СОБОРЯН» ЧАСТО СРАВНИВАЮТ С АНГЛИЙСКИМИ РОМАНАМИ О СВЯЩЕННИКАХ?Это сравнение напрашивается прежде всего потому, что в классической английской литературе священник – это образ разработанный и традиционно вызывающий сочувствие, по крайней мере со времен романа Оливера Голдсмита[38] «Векфильдский священник», где, как и у Лескова, описан гонимый праведный священнослужитель. Кроме романа Голдсмита «Соборян» неоднократно сопоставляли с «Барчестерским циклом» Энтони Троллопа[39], созданным в 1850–1860-е. «Русским Барчестером» называл Старгород еще Дмитрий Святополк-Мирский, впрочем уточнявший, что любую другую лесковскую вещь, кроме «Соборян», с Троллопом сравнивать нелепо[40]. Романы Троллопа издавались в России в середине XIX века и были знакомы Лескову.
В статье исследовательницы Варвары Бячковой проводится сравнительный анализ текстов Лескова и Троллопа: оба писателя тяготеют к «хроникальной» форме, оба относятся к своим героям с «нескрываемой симпатией»; и у Лескова, и у Троллопа священники вступают в конфликт с не понимающим их ревностной веры миром; у обоих смерть главного героя означает конец старого мира и наступление новой эпохи[41]. Вместе с тем налицо и различия, в первую очередь в самой фактуре: быт англиканского священника, «мало чем отличающийся» от светского быта его прихожан, не слишком похож на быт священника православного. Другие классические английские тексты, с которыми сравнивают «Соборян», – цикл рассказов «Сцены из клерикальной жизни» Джордж Элиот, чью прозу Лесков также читал. Английская писательница, как и Лесков, показывает «многочисленные тяготы жизни простых священнослужителей» и их стремление «усовершенствовать дела Церкви, улучшить жизнь своих прихожан, внушить им высокие нравственные истины»[42] – эти желания прихожане, как и у Лескова, встречают без понимания, а священники, в свою очередь, готовы бороться за них до конца. И Лесков, и его английские коллеги реагируют в первую очередь именно на слом эпохи, ощутимую смену отношения общества к прежнему укладу – это сходство тенденций при различных исторических обстоятельствах.
С английской литературой «Соборян» связывают и другие мотивы. В беспокойные 1860-е протопоп Туберозов вспоминает «Тристрама Шенди» Лоренса Стерна: «…заключаю, что по кончании у нас сего патентованного нигилизма ныне начинается шандиизм» – то есть эпоха, в которую, по выражению Стерна, все «непрестанно как в шутку, так и всерьез смеются». Речь о том, что основным общественным умонастроением становится цинизм, о том, что всякая духовная борьба и искренние порывы в этом цинизме увязают. Много лет спустя нечто подобное Герман Гессе назовет в романе «Игра в бисер» «фельетонной эпохой» – часто идею Гессе воспринимают как предсказание постмодернистского морального релятивизма. Если учесть, что произведения Стерна нередко называют «постмодернизмом до постмодернизма», жалобы доброго консерватора Туберозова становятся понятны. «Стернианским отражениям» в «Соборянах» посвящена диссертация филолога Инны Овчинниковой, считающей, что, отталкиваясь от стернианского способа повествования, Лесков достигает собственного баланса трагического и комического (связанного с «алогизмом русской реальности пореформенного времени»)[43]. В другой работе Овчинникова замечает, что в «Демикотоновой книге» – дневнике отца Савелия – есть целая страница, залитая черными чернилами (из-за оплошности, вызванной сильным волнением). Такая же «черная страница» есть в «Тристраме Шенди»[44] – Лесков, таким образом, мог помнить о яркой детали, «подцвечивающей» текст.
КАКУЮ РОЛЬ В РОМАНЕ ИГРАЕТ ПРОТОПОПИЦА НАТАЛЬЯ?Всегда готовая услужить своему мужу, обласкать его, приготовить ему постель и трапезу, «не слышащая в нем души» протопопица Наталья – пример идеальной, кроткой, жертвенной, истинно христианской любви. «Поведайте мне времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, родятся такие женщины, как сия добродетель?» – записывает в своем дневнике отец Савелий, когда жена, горюя о своей бездетности, спрашивает мужа: не было ли у него до брака незаконнорожденных детей, чтобы они могли воспитать их. Ни священники Савелий и Захария, ни дьякон Ахилла, при всей авторской и читательской любви к ним, не идеальны – у каждого из них свои недостатки. Упрекнуть протопопицу совершенно не в чем – разве только в том, что она «светит отраженным светом».
Литературным прототипом Натальи Туберозовой можно счесть Анастасию Марковну – жену протопопа Аввакума. Знаменитый диалог из аввакумовского «Жития» («Долго ли муки сея, протопоп, будет?» – «Марковна, до самыя смерти!» – «Добро, Петровичь, ино еще побредем») прекрасно подходит и к отношениям супругов Туберозовых. Когда отец Савелий попадает в очередную, роковую для него, опалу, его жена приезжает ухаживать за ним, заболевает и умирает. Сцена кончины протопопицы – одна из самых трогательных в русской литературе. Пожалуй, именно здесь – катарсис «Соборян».
ЗАЧЕМ В «СОБОРЯНАХ» ОЧЕРК «ПЛОДОМАСОВСКИЕ КАРЛИКИ»?Боярыня Марфа Андревна Плодомасова – своенравная, любящая прямоту и честность старуха, реликт прошлого столетия – появляется в романе в дневнике Савелия Туберозова. Когда он произносит проповедь, снискавшую неудовольствие начальства, к нему приезжает странный гость – карлик Николай Афанасьевич, слуга Плодомасовой. Он просит священника пожаловать к своей хозяйке: та хочет познакомиться с «умным попом, который… приобык правду говорить». Плодомасова становится покровительницей отца Савелия. В мире «Соборян» она – хранительница устоев; ее все уважают и немного боятся. В классической русской прозе есть несколько таких эксцентричных, грозных, но добрых старух: Марья Дмитриевна Ахросимова в «Войне и мире» Толстого, Татьяна Марковна Бережкова в «Обрыве» Гончарова, да и у самого Лескова такой персонаж еще раз появляется в «Захудалом роде» – это княгиня Протозанова. По воспоминаниям Лескова, прототипами обеих героинь были его родная тетка Наталья Петровна Алферьева и знакомая ему старая помещица Настасья Сергеевна Масальская – последняя тоже держала в услужении карлика.
Линия Плодомасовой для романа очень важна, но ее слугам-карликам, брату и сестре Николаю Афанасьевичу и Марье Афанасьевне, Лесков уделяет особое внимание. Здесь нам приходится коснуться непростых вопросов лесковской текстологии. Работая над своим opus magnum, Лесков использовал для него ранее написанные тексты, в том числе часть произведения «Старые годы в селе Плодомасове». «Старые годы», задуманные еще в конце 1850-х и законченные в 1869-м, – большая хроника из трех очерков, в которых описана жизнь Марфы Андревны. Третья часть этой хроники – собственно «Плодомасовские карлики» – была отдельно опубликована в «Русском вестнике» в 1869 году, а потом попала в «Соборян» с некоторыми изменениями. Лескову пришлось объясняться с читателями «Соборян», которые ждали появления полюбившихся им карликов: «Воспоминаемый читателями прежде напечатанный отрывок принадлежит ко второй, а не к первой части романа, и затем главнейший из карликов (Николай Афанасьевич) продолжает быть действующим лицом до самого конца повествования».
Обещание Лесков сдержал: Николай Афанасьевич остается в «Соборянах» важным героем. Именно в его рассказах о прошлом в Плодомасове появляется тот самый лесковский сказ, которым писатель так любил излагать удивительные биографии. Николай Афанасьевич – литературный родич героев «Очарованного странника» и «Тупейного художника», его рассказы об общении на балу с императором Александром I и о том, как его хозяйка мечтала женить его на другой, так сказать, конкурирующей карлице, – та подлинно русская эксцентрика, которая граничит с дикостью и по которой, однако, Лесков умиленно вздыхает (а мы этой эмоцией заражаемся), та «старая сказка», с которой протопоп Туберозов призывает жить в ладу. Экзальтация Ахиллы, который сажает карлика к себе на ладонь, и причуды старой Плодомасовой – все это не выглядит в контексте романа оскорбительно и характеризует простодушие героев. Впрочем, этим роль Николая Афанасьевича не ограничивается: он остается другом и помощником отца Савелия, хлопочет, чтобы его опала была смягчена, а когда запрещенный в служении протопоп умирает, Николай Афанасьевич привозит к его похоронам разрешение от этого запрета, благодаря чему Туберозова хоронят в полном облачении, со всеми полагающимися почестями.
ВАРНАВА ПРЕПОТЕНСКИЙ – КАРИКАТУРА НА НИГИЛИСТА?Варнавка Препотенский – учитель и лютый враг протопопа Савелия и дьякона Ахиллы. В начале романа мы узнаем о его ужасном поступке: он «сварил в котле человека», то есть тело утопленника, чтобы извлечь из него скелет и использовать его как анатомическое пособие. Это приводит Ахиллу, да и все старгородское священство в ужас и возмущение. Война с Препотенским начинается как анекдот, но вскоре у Варнавки появятся влиятельные союзники, и дело примет совсем не шуточный оборот.
Случай со скелетом Лесков взял из газетной хроники и очень сильно утрировал: в романе он явно пародирует просветительский позитивизм и материалистические взгляды «новых людей» – вспомнить хотя бы тургеневского Базарова с его убиенными лягушками и разговорами об анатомии глаза. Собственно, Препотенский – это «новый человек», прочитавший Тургенева: раздосадованный небрежением прессы к просвещению, он спрашивает, «зачем же они в таком случае манили нас работать над лягушкой», а в другом месте цитирует роман «Дым» (который, кстати, в 1865 году еще не вышел).
Базаров сам слегка пародиен (за что Тургеневу крепко досталось от нового человека Антоновича и всей прогрессивной молодежи 1860-х), но на фоне тех взглядов, с которыми ассоциировался Лесков, «Отцы и дети» выглядели прямо-таки революционной пропагандой. Дело в том, что писательская карьера Лескова была омрачена неудачным журналистским опытом (статьей о петербургских пожарах 1862 года) и историей с его первыми романами – «Некуда» и «На ножах» (последний создавался и печатался одновременно с «Соборянами»). Эти романы, где нигилисты описывались безо всякой симпатии – как опасные смутьяны и прохиндеи, вписались в «антинигилистическую тенденцию» и поставили Лескова в контекст, которого он вовсе не заслуживал: писателя прямо обвиняли в работе на Третье отделение. Лесков славился упрямством – и то, что в «Соборянах» он опять выводит на чистую воду нигилистов, хорошо рисует его характер.
Стоит заметить, что имя и фамилия Варнавы Препотенского – подчеркнуто поповские. Имя Варнава носил один из апостолов от семидесяти, и в его честь были наречены многие известные церковные деятели. Латинское praepotēns означает «очень мощный» («вельми мощный», сказал бы священник) – такими «латинскими» фамилиями любили нарекать в духовных училищах. Варнавка Препотенский – сын просвирни, а отцом его был священник. Окончив семинарию с отличием, Препотенский отказывается становиться священником, поскольку «не хочет быть обманщиком». До дикой истории со скелетом его борьба с клерикализмом, в сущности, детские шалости – он обманом заставляет протопопа Савелия отслужить панихиду по декабристам и подначивает учеников задавать священникам каверзные вопросы: «Этот глупый, но язвительный негодяй научил ожесточенного лозами Алешу Лялина спросить у Захарии: «Правда ли, что пьяный человек скот?» – «Да, скот», – отвечал ничтоже сумняся отец Захария. «А где же его душа в это время, ибо вы говорили-де, что у скота души нет?»
Так что да, Препотенский – нигилист в специфическом лесковском понимании. В отличие от тургеневского Базарова, который «решил ни за что не приниматься», он как раз человек деятельный – он школьный учитель и тем самым более опасен. В самом по себе учении ничего дурного нет, и вряд ли Лесков полагал, что не следует изучать человеческую анатомию. Опасность – в том пренебрежении, которое Препотенский проявляет по отношению к заповедному миру духовенства: именно из этого зерна нигилизма произрастает катастрофа, которая в конце концов погубит старгородский причт.
То, что в церковной среде появлялось множество атеистов и революционеров, сохраняющих религиозный пыл, но сменивших содержание своей проповеди, не составляло секрета уже в середине XIX века – об этом писал, в частности, Помяловский; другой бывший бурсак, публицист-социалист Григорий Елисеев, говорил о «бегстве семинаристов» (в конце 1870-х «46% всех студентов составляли бывшие семинаристы»[45]). Татьяна Ильинская пишет о «пародийном апостольстве» Препотенского и сближает его фамилию (в первом варианте «Соборян» его звали Омнепотенский) с «потом», фразеологизмами вроде «в поте лица своего». Подобная ложная этимология – вполне в духе Лескова, достаточно вспомнить знаменитый «буреметр» из «Левши».
ЗАЧЕМ В ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ ХРОНИКИ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПИРА У ПОЧТМЕЙСТЕРШИ?Этот пир имеет определенное значение для сюжета. На нем появляется петербургская дама госпожа Мордоканаки – очередная ономастическая шпилька Лескова: комментатор «Соборян» Илья Серман считает, что это намек на откупщика и золотопромышленника Дмитрия Бенардаки[46], прототипа Костанжогло из второго тома «Мертвых душ»[47]. У этой дамы старгородское общество хочет просить заступничества за опального протопопа Туберозова. Вечер заканчивается скандалом опять-таки в гоголевском духе: подначиваемый Ахиллой, учитель Препотенский дергает за ус капитана Повердовню, и начинается свалка; в финале Препотенского еще и избивает почтмейстерша, после чего он навсегда бежит из города. Впоследствии он станет редактором журнала и женится на петербургской барышне, которая будет его бить. Так комическим крахом завершается его сюжетная линия в «Соборянах» (до этого такой же крах постиг кости несчастного утопленника, за которые Препотенский воевал ради науки: их выбросили «в такое место, что теперь нет больше никакой надежды»).
Но есть у сцены пира, занимающей восемь глав, и еще одна функция: это как бы интермедия между событиями первых частей «Соборян» и финальной, самой трагичной и возвышенной частью. Перед рассказом о кончине протопопицы Натальи, протопопа Туберозова и других центральных героев Лесков показывает веселую беседу с анекдотами, байками и наивными стихами, очередные выходки простодушного Ахиллы, глупость Препотенского и небольшой скандал. Можно подобрать этому отдаленную аналогию в литературе XX века – в «Мастере и Маргарите» Булгакова: последние похождения Коровьева и Бегемота в Москве перед тем, как свита Воланда покидает Москву, а Мастер отпускает на свободу своего героя.
ЧТО ЛЕСКОВ ИМЕЕТ ПРОТИВ ПОЛЯКОВ?«Польский вопрос», как и нигилисты, – больная тема для Лескова и одна из причин неоднозначной прижизненной репутации писателя. Польское восстание 1863 года[48] – среди сюжетных линий романа «Некуда», и даже при издании этого романа издателями были сделаны купюры; польские сцены цензурировались и в последующих переизданиях – недовольный этим Лесков признавал, что они «обидны для поляков». Тема польского восстания возникает и в романах «На ножах» и «Обойденные».
В «Соборянах» поляки – одна из постоянных забот протопопа Савелия. Он выходит из себя, получив выговор от чиновника-поляка; со своей благодетельницей Плодомасовой рассуждает о том, что «войска наши… по крайней мере удерживают поляков, чтоб они нам не вредили»; в 1846-м, после неудачного восстания в Кракове[49], беспокоится о том, что к ним в город ссылают поляков. Эти ссыльные поляки будут досаждать Савелию – смеяться над православной верой, саботировать панихиду по убиенным воинам, и священник пойдет на нечто, вообще говоря, противное его убеждениям: «Чего сроду не хотел сделать, то ныне сделал: написал на поляков порядочный донос, потому что они превзошли всякую меру». Донос возымеет действие: поляков переведут на другое место жительства, но именно с этого начнется конфликт отца Савелия с «либеральной» и вздорной чиновницей Бизюкиной, который сыграет в его жизни скверную роль.
При этом в случае Лескова нельзя говорить о полонофобии, свойственной, например, Достоевскому. Лесков превосходно владел польским языком, дружил и переписывался со многими польскими литераторами. Исследователи говорят о «симпатиях Лескова к Польше», правда, в контексте «идей славянской взаимности». В 1863-м, в разгар антипольской кампании в российской прессе, выходит повесть Лескова «Житие одной бабы» с посвящением одному из польских друзей – поэту и прозаику Винценту Коротыньскому («Викентию Коротынскому»). Да и в «Соборянах» с поляком Чемерницким – одним из тех, на кого Туберозов донес, – священник через некоторое время мирится и просит у него прощения. Чемерницкий, в свою очередь, будет хлопотать о награде для Туберозова. В последней части «Соборян» дьякон Ахилла вспоминает, как его, когда он сболтнул лишнего в кабаке, выручил местный начальник тайной полиции – тоже поляк: «Поляк власти не любит, и если что против власти – он всегда снисходительный».
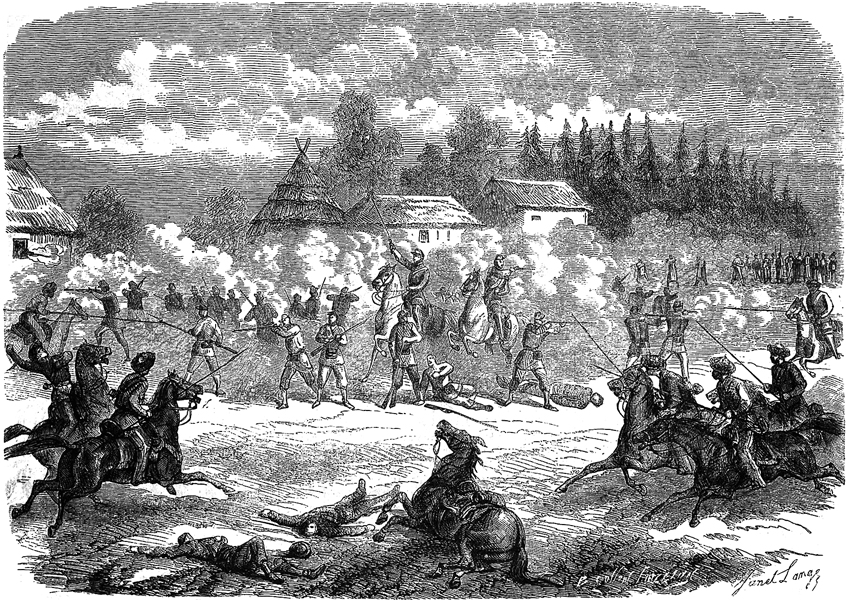
Битва при Загуруве во время Польского восстания 1863 года[50]
Здесь можно вспомнить, что и в «Некуда» революционер Райнер, отправляющийся воевать за свободу Польши, – единственный симпатичный персонаж из всех нигилистов и социалистов: он не болтает, а занимается тем, во что верит; в конце романа его казнят. Таким образом, и отношение Лескова к революционерам вообще – амбивалентное: например, до начала работы над «Некуда» он восхищался талантом Герцена и искал с ним встречи. В «Соборянах» газету «Колокол» (причем еще до выхода ее первого номера – это один из лесковских анахронизмов) с интересом, но и поеживаясь «по непривычке к смелости» читает протопоп Савелий Туберозов.

