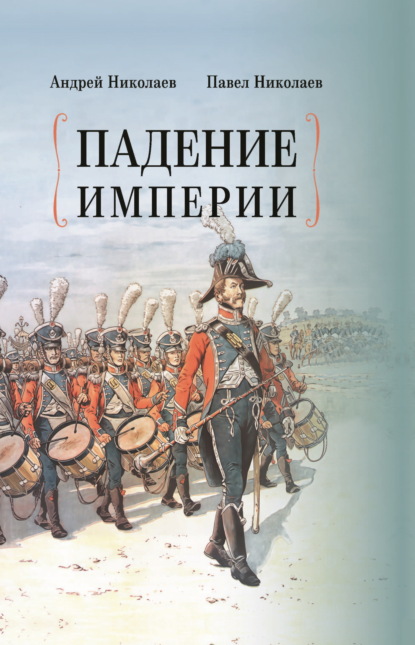
Полная версия:
Падение империи
В этот день Австрия объявила войну Наполеону, и 150 тысяч австрийских солдат присоединились к войскам коалиции. Это сразу усилило союзников. К тому же шли им на помощь шведские войска, наступали со стороны Пиренеев испанцы и англичане, коалиция Баварии и Вюртемберг, Баден и Ниссаву. Против Наполеона поднималась вся Европа.
«Я ручаюсь, что свергну Наполеона»
Каковы же были итоги, с которыми противники подошли к очередному столкновению? Силы союзников насчитывали 740 тысяч человек при 1 936 орудиях. Наполеон набрал 555 тысяч при 1 200 орудий, то есть по вооружённым силам (людям и артиллерии) Наполеон сильно уступал противнику. Более того, французская армия на 80–85 процентов состояла из юношей, призванных раньше положенного срока, наскоро вооружённых и обученных. Они не имели военного опыта, не были готовы к длительным марш-броскам и суровым погодным условиям. Кроме того, 50 тысяч саксонцев, вестфальцев, баварцев и гессенцев не горели любовью к Наполеону и были более вредны, чем полезны.
Силы союзников были рассредоточены по трём армиям: 1) Богемской (главной) под командованием генерал-фельдмаршала К. Шварценберга; 2) Силезской под началом Г. Блюхера и 3) Северной под командованием принца Карла Юхана. Главнокомандующим всеми вооружёнными силами союзников назначили австрийца Шварценберга, хотя рвался на эту должность царь Александр I. Генерал Вильсон, представитель Великобритании при ставке союзников, вспоминал:
– Русский император хотел сам возглавить армию, и я никогда не видел человека, более взволнованного, чем он, когда пытался сделать это. И никогда я не видел большего разочарования, чем на его лице, когда ему не предложили этого поста.
Наиболее опасным противником Наполеон считал Блюхера, поэтому сразу устремился на Силезскую армию, но вскоре узнал, что на его левом фланге действует Богемская армия и её основные силы идут к Дрездену, столице Саксонии. Оставив против Блюхера корпус Макдональда, император форсированным маршем двинулся к Дрездену.
25 августа союзники подошли к Дрездену и утром следующего дня приступили к исполнению своего плана по захвату города. Но благоприятный момент был упущен. Когда царь поднялся на высоты Рекница, он увидел французские войска, шедшие по Бауценской дороге. Тут же были получены сведения о прибытии самого Наполеона. Это вызвало препирательство в штабе союзников. По словам Михайловского-Данилевского, «то место, где стояли монархи со штабом своим, уподоблялось шумному народному совещанию». Медлительность Шварценберга привела Моро в крайнее раздражение, и, бросив свою шляпу на землю, он сказал фельдмаршалу: «Чёрт побери вас, сударь! Я не очень удивляюсь тому, что начиная с семнадцатилетнего возраста вы всегда бывали биты». Александр отвёл героя республиканских войн в сторону и постарался успокоить его. «Ваше величество, этот человек лишит вас всего», – не унимался Моро.
Шварценберг покинул совещание и поскакал отыскивать начальника австрийского штаба Радецкого и генерал-квартирмейстера Лангенау, чтобы отдать им распоряжение об отходе. Однако время шло, а отступление не начиналось, более того, в четвёртом часу колонны двинулись вперёд. Видимо, из-за большой растянутости армии (наступление велось на протяжении 15 вёрст) быстро отменить прежние распоряжения оказалось невозможным.
В шестом часу разгорелось сражение. Наполеон, не опасаясь за свой центр, достаточно прикрытый дрезденскими укреплениями, двинул в бой оба своих крыла. К вечеру русские и австрийцы были отброшены от Дрездена. Александр находился на поле боя, пока не стих последний выстрел, а ночью вновь созвал военный совет. Ввиду того что подошедшие к ночи подкрепления увеличили силы союзников до 160 тысяч, ему удалось убедить Шварценберга оставаться на занятых позициях.
Ночью хлынул холодный дождь, увеличив уныние солдат, терпевших недостаток в припасах и обескураженных неудачей приступа.
27/15 августа в шестом часу утра Александр прибыл на позиции. Ливень не утихал, мешая продвижению обеих неприятельских армий и делая ружья совершенно непригодными к использованию. Через час союзная и французская артиллерии вступили в поединок, продолжавшийся без перерыва восемь часов. Всё это время Александр со штабом находился на холме, наблюдая, как ядра проламывают просеки в густых рядах, многие смертоносные снаряды долетали и до холма. Часу в третьем Александр заметил, что его лошадь бьёт копытом о камень, отъехал несколько шагов. Место, на котором стоял царь, занял Моро. Не прошло и минуты, как раздался нарастающий свист и французское ядро прошило его лошадь, а ему оторвало одну ногу и раздробило колено другой. Когда генерала унесли, появился гонец с донесением, что четыре австрийских полка на левом фланге сложили оружие. Все сразу заговорили об отступлении. Александр предложил возобновить бой наутро, но Шварценберг уже был невменяем, он только и твердил, что об огромных потерях, которые и в самом деле были велики – 30 тысяч человек за два дня – и изнурении австрийской армии. Царь с сокрушённым видом предоставил ему распоряжаться. Ночью под непрекращающимся дождём, по колено в грязи началось отступление. В темноте слышались только вопли раненых и ругательства.
Наполеон, промокший до костей, вечером приехал во дворец союзника короля саксонского. Несмотря на непогоду, въезд в Дрезден был обставлен со всевозможной торжественностью: за императором несли трофейные знамёна и вели 15 тысяч пленных союзников. Когда саксонский военный министр поздравил победителя, Наполеон выразил сожаление, что ненастье помешало ему окончательно уничтожить неприятеля.
– Но, – добавил он, – там, где меня нет, всё плохо.
Действительно, победа под Дрезденом была последней улыбкой Фортуны наскучившему любимцу.
В сражении за Дрезден со стороны союзников участвовало 150 тысяч человек, со стороны французов – 70 тысяч. Союзники потеряли 31 тысячу солдат и офицеров и 40 орудий, французы лишились 10 тысяч человек.
Интересно описание этого сражения самим Наполеоном. Находясь уже в заключении на острове Святой Елены, он говорил о нём доктору О’Мира следующее:
«В битве при Дрездене я приказал атаковать войска союзников, находившиеся по обеим флангам моей армии. В то время как проводилась эта операция, центральная группировка моей армии оставалась на месте. На расстоянии примерно в 500 ярдов я заметил группу всадников, собравшихся вместе. Сделав вывод, что они пытаются проследить манёвры моей армии, я принял решение нарушить их планы и вызвал артиллерийского капитана, командовавшего батареей из восемнадцати или двадцати пушек: „Немедленно обстреляйте эту группу людей; возможно, среди них есть несколько младших генералов“. Приказ был выполнен незамедлительно. Одно из пушечных ядер попало в Моро, оторвало обе его ноги и пронзило насквозь его лошадь. Я думаю, те, кто стояли рядом с ним, были убиты или ранены. Минутой раньше с ним беседовал Александр. Ноги Моро были ампутированы недалеко от места его ранения. Одна из его ног, обутая в сапог, которую хирург бросил на землю, была принесена королю Саксонии крестьянином, который сказал, что какой-то высокопоставленный офицер был ранен пушечным ядром. Король, поняв, что имя раненого офицера может быть выяснено благодаря сапогу, послал сапог мне. Сапог осмотрели в моём штабе, но всё, что можно было установить, – это что сапог не был английского или французского производства. На следующий день нам сообщили, что это была нога Моро.
Ничего удивительного не было в том, что через некоторое время я приказал во время военной операции тому же артиллерийскому офицеру с теми же пушками и при схожих обстоятельствах дать залп одновременно из восемнадцати или двадцати пушек в группу офицеров, собравшихся вместе. В результате генерал Сен-При, ещё один француз, предатель, но человек не без таланта, занимавший командную должность в русской армии, был убит вместе со многими другими.
Ничто не является более губительным, чем одновременный залп из дюжины и более пушек в группу противника. От выстрела одной или двух пушек можно спастись, но от одновременного залпа нескольких пушек это почти невозможно».
К рассказу императора, по-видимому, следует добавить одну существенную деталь, опущенную им: во второй день сражения он чувствовал себя неважно, и это сказалось на конечном исходе битвы. Слоон сообщает следующее по этому поводу:
«Наполеон весь день просидел перед костром в какой-то странной апатии, по-видимому, с начинавшимся у него расстройством желудка. В шесть часов Наполеон убедился, что сражение кончено, и, сев на коня, апатично поехал рысью во дворец, причём дождь струился потоками по традиционной его шляпе и серому походному сюртуку».
Если верить капитану Куанье, то в ночь с 27-го на 28 августа во французском штабе знали как нельзя лучше, что неприятель разбит наголову Удивляясь, что Наполеон не принимает никаких мер к тому, чтобы воспользоваться победой, офицеры в товарищеской беседе друг с другом честили своего императора на чём свет стоит. «Этот… погубит нас всех», – говорили они, приправляя свои слова нелестными эпитетами в адрес Наполеона.
Если верить самому великому полководцу, то с ним близ Тирны сделался странный приступ рвоты, заставивший его в этот роковой день положиться во всём на других. Тем не менее, сопоставляя все имеющиеся сведения, приходится заключить, что болезненное состояние императора не играло на самом деле такой существенной роли и что с чисто военной точки зрения французские офицеры имели полное основание его проклинать. Наполеон как будто умышленно воздержался от уничтожения австрийской армии в надежде, что его тесть в благодарность за такое снисхождение отречётся от коалиции и возобновит с ним союз.
Весь образ действий такого гениального полководца, как Наполеон, представляется в данном случае до чрезвычайности странным. Он мог нанести во второй день боя страшный удар союзной армии, но вместо того ограничился только разгромом одного её крыла и после второго дня не распорядится сколько-нибудь энергично преследовать отступающего врага.
Даже и на третий день преследование производилось только для вида. Действительно, Наполеон, начав приводить свой план в исполнение, впал тотчас же в состояние какой-то загадочной усталости и апатии. В продолжение всего боя он находился в таком состоянии, из которого слегка пробудился, лишь когда ему донесли, что Моро смертельно ранен. Причины этой апатии могли быть физического или же нравственного свойства, но ещё вероятнее, что они сводились главным образом к ошибке в политических расчётах.
Словом, известный историк полагает, что Наполеона бес попутал: завершить Дрезденское сражение полным разгромом армии Шварценберга помешало упование на тестя императора Австрии Франца.
Так или иначе, император вышел из строя и почти шесть недель оставался под наблюдением врачей, а его маршалы в это время терпели одно поражение за другим: Ней – при Денневице, Макдональд – на реке Кацбах, Удино – при Гросберене, Вандам – при Кульме.
* * *После неожиданного успеха при Кульме участники конгресса в Праге предоставили Наполеону результат новых совместных переговоров между союзниками. В дополнение к прежним требованиям они выдвинули два новых условия. Первое – отказ от прежнего влияния Франции в Италии и возвращение захваченных итальянских территорий. Второе – отказ от французского влияния в Германии и возвращение немецких территорий. Император по поводу этих предложений заявил:
– Конечно, подобные предложения по своей сути и при нынешнем развитии событий являются более чем приемлемыми, но где гарантии их искренности?
Своим советникам, ратовавшим за принятие предложений союзных держав, говорил:
– Если я откажусь от Германии, то Австрия будет только ещё более настойчиво сражаться, пока не овладеет Италией. Если я уступлю ей Италию, то она попытается вытеснить меня из Германии. Таким образом, одна сделанная уступка только послужит стимулом для того, чтобы добиться новых. От меня станут требовать одну уступку за другой, пока я не отправлюсь назад в Тюильри, откуда французский народ, разгневанный моей слабостью и обвиняющий меня в своих бедствиях, изгонит меня, и, возможно, вполне справедливо, хотя потом он сразу же станет добычей для иностранцев.
– Разве это не точное пророчество событий, которые последовали после вероломных деклараций Франкфурта?! – восклицал Лас Каз, биограф Наполеона.
Наполеон вообще по своей натуре не любил уступать, был человеком крайностей, поэтому закончил свои назидания весьма характерной для войны и правителя фразой:
– В тысячу раз лучше погибнуть в сражении среди ярости торжествующих врагов, ибо даже поражения оставляют после себя уважение к сопернику, когда они сопровождаются его благородной стойкостью.
Кстати. Все пишущие о Наполеоне уделяют особое внимание одному эпизоду сражения под Дрезденом – гибели генерала Моро. И этому есть ряд причин. Первая: Моро был талантливым военачальником, его противопоставляли Наполеону и надеялись на него. Моро действительно успел дать союзникам хороший совет не ввязываться в сражения с самим Наполеоном, а поодиночке громить его маршалов. Но самое главное, чем Моро подкупил российского самодержца, мы узнаём из его письма, отправленного в январе 1813 года русскому посланнику С. Дашкову:
«Это истинное несчастье для человечества, что низкий виновник всех бедствий один ускользнул от крушения, которому подверглась его армия. Он ещё может сделать очень много зла, ибо страх имени его придаёт ему великое влияние на слабых и злополучных французов. Я уверен, что он бежал из России, опасаясь столько же дротиков казаков, как и раздражения войск своих. Пленные французы в России должны быть против него в бешенстве и дышать мщением. Если бы значительное число сих несчастных согласилось, под моим предводительством, выйти на берега Франции, то я ручаюсь, что свергнут Наполеона».
Александр, лишившись Моро, впал в мистицизм и писал князю А.Н. Голицыну:
«Я бы хотел выгравировать золотыми буквами последнюю страницу вашего письма от 2 сентября, мой дорогой друг, и поместить её в сердце каждого истинного христианина. Именно так я рассматривал несчастное происшествие, случившееся с генералом Моро, и лучшим доказательством тому, какое я могу вам дать, служит то, что ещё из Праги я писал в Петербург, что горе нам, если мы вообразим себе, что дело решено, раз уж Моро с нами, – один только Бог, а не Моро или кто-то другой, может довести дело до благоприятного конца; на меня это происшествие, не считая горького сожаления о генерале как человеке, не произвело никакого действия, кроме того, что укрепило во мне веру, что Бог оставляет заботу обо всём за собой одним и что моё доверие к нему сильнее, чем ко всем Моро на свете. У нас дела продолжают идти великолепно. Весь Ваш сердцем и душой».
Сражение под Кульмом
Неудачный исход Дрезденского сражения вынудил союзников отступать на юг, в Богемию. С целью отрезать им путь отхода Наполеон направил в Богемию корпус генерала Р. Вандама. Ему была поставлена задача переправиться на левый берег Эльбы и, продвинувшись на юг по Петерсвальдскому шоссе, упредить союзников и занять южные выходы с гор. Это давало возможность запереть 140-тысячную армию союзников в горном ущелье и разгромить их. Поэтому Наполеон сказал Вандаму, что никогда он не будет иметь лучшего случая заслужить маршальский жезл.
Сорокатысячному корпусу Вандама противостоял генерал Евгений Вюртембергский с отрядом в 13 тысяч человек. Вандам атаковал его малыми группами, что не давало нужного результата. Наполеон, крайне недовольный вялыми действиями генерала, направил ему следующую записку: «Его Величеству угодно, чтобы вы со всеми своими силами атаковали принца Вюртембергского и через Петерсвальд вступили в Богемию. Император полагает, что ваши войска могут занять сообщения, ведущие к Теплицу, прежде, нежели успеет туда прийти неприятель, разбитый под Дрезденом и отступающий на Альтенберг».
Записка подействовала, и Наполеон писал Мюрату: «Брат мой, вчера, 28-го, в шесть утра генерал Вандам атаковал князя Вюртембергского у Гелендорфа. Он взял в плен полторы тысячи человек и захватил четыре орудия. Он действовал энергично: все пленные – русские. Генерал Вендам со своим корпусом двинулся в Теплицу. Генерал Вандам пишет, что страх охватил всю русскую армию».

Сражение под Кульмом
После суток арьергардных боёв русские войска остановились за Кульмом. Им надо было удерживать занятую позицию, чтобы Главная армия сошла с гор и сконцентрировалась у Теплица.
29 (17) августа в десять часов утра Вандам начал наступать. Противники не раз сходились на полях. Офицеры бились в первых рядах. Гвардия совершала чудеса. К трём часам пополудни Вандам бросил в последнюю атаку две густые колонны, приказав им во что бы то ни стало пробить оборону А.И. Остермана-Толстого между левым крылом и центром. Но Александр Иванович умело использовал силы своего небольшого отряда, которому нужно было продержаться до подхода союзников.
Обе стороны несли большие потери. Прибывшие свежие батальоны Вандам тотчас вводил в бой. Он был уверен, что после ожесточённой и кровопролитной схватки у русских не осталось резервов и что вот-вот победа, наступят. Но в этот момент Остерман-Толстой ввёл в сражение лейб-гвардии Драгунский и Уланский полки. Они внезапным стремительным ударом обрушились на неприятеля и смяли его колонны. По всей линии фронта русские перешли в атаку. К этому времени передовые части союзников вышли на Теплицкую дорогу, а французам так и не удалось пробиться через русские войска.
Но сражение продолжалось. Шальным ядром Остерману-Толстому оторвало руку. Когда его снимали с лошади, он улыбался и говорил:
– Вот как я заплатил за честь командовать гвардией. Я доволен.
Вечером к Кульму стали подходить основные силы Богемской армии. На следующий день союзники стянули к месту сражения 40 тысяч солдат, у Вандама оставалось около 30 тысяч. Барклай де Толли приказал русским войскам атаковать противника в лоб. Австрийцы зашли с фланга, пруссаки – в тыл противника. Ударом с трёх сторон корпус Вандама был разгромлен: более 8 тысяч убитых, 13 тысяч были взяты в плен – сам Вандам, начальник его штаба Сирунглен, дивизионный генерал Оке, бригадный командир Брим. Победителям достались 83 орудия противника, два орла и два знамени, весь обоз и личные экипажи офицеров. Победа была полной. Поражение Вандама свело на нет все успехи Наполеона. Что же касается судьбы этого генерала, то его коллега дивизионный генерал Пьер Бертезен рассказывал:
– Вандам имел репутацию грабителя и был жесток по отношению к эмигрантам. Император Александр, к которому он был приведён, принял его, говорят, очень плохо и упрекал за его поведение. Оскорблённый Вандам пожаловался на недостаточное уважение, оказанное ему, и прибавил, что он поступил бы хуже, если бы убил своего отца!
То есть в Западной Европе и через двенадцать лет не забыли о том, как досталась царская корона их освободителю, и не очень-то обольщались внешним лоском этого «азиата».
В рапорте Остерману-Толстому о сражениях под Кульмом Ермолов отнёс весь успех дела на счёт мужества войск и распоряжений Остермана-Толстого. В этом рапорте Ермолов писал: «Не представляю особенно о подвигах отличившихся… офицеров. Из числа их надобно представить списки всех вообще. Не представляю о нижних чинах (солдатах), надобно счислить ряды храбрых полков». Однако Остерман-Толстой, страдая от жестокой раны, прочитал этот рапорт и написал записку, в которой указал, что в нём мало упомянуто «о генерале Ермолове, которому я всю истинную справедливость отдавать привычен». Когда Остерман-Толстой за это сражение получил высокую награду – орден Георгия II степени, он сказал: «Этот орден должен бы принадлежать не мне, а Ермолову, который принимал важное участие в битве и окончил её с такой славой»[11].
Кульмское сражение покрыло русскую гвардию, вынесшую на своих плечах основную тяжесть боя, неувядаемой славой: Преображенскому и Семёновскому полкам, а также гвардейскому морскому экипажу были вручены георгиевские знамёна, а Измайловскому и Егерскому полкам, уже имевшим эти знамёна за Бородино, – георгиевские трубы.

А.П. Ермолов
В честь Кульмской победы в 1835 году в Теплице был воздвигнут памятник. В Праге в память солдат и офицеров, умерших от ран в сражениях под Дрезденом и Кульмом, был открыт памятник, надпись на котором гласила: «Герои! Священ ваш прах стране сей, и память ваша незабвенна в своём Отечестве».
Прусский король наградил орденом Железного креста[12] генералов, офицеров и нижние чины русской гвардии. Это вызвало недовольство пруссаков. Тогда король назвал крест Кульмским. От Железного он отличался отсутствием короны, вензеля и датой учреждения.
3 сентября последовали награды от царя. Барклай де Толли получил орден Святого Георгия I степени, Шварценберг и Блюхер – Святого Андрея Первозванного, Остерман-Толстой – Святого Георгия II степени, Милорадович – шпагу с бриллиантами и 50 тысяч рублей, Ланжерон – вензель и 30 тысяч. Сакен произведён в генералы от инфантерии.
Сражение под Кульмом сыграло роковую роль в судьбе Наполеона: его империя начала рассыпаться. Будучи уже не хозяином, а пленником Европы, он говорил доктору О’Мира:
– После победы под Дрезденом я был полным хозяином положения, и, чтобы обмануть противника, я подготовил план наступления моих войск на Магдебург, которые после переправы через Эльбу должны были двинуться на Берлин. Осуществлением этого манёвра были заняты несколько дивизий французской армии, когда мне доставили письмо от короля Вюртемберга, сообщавшего о том, что баварская армия присоединилась к австрийцам и в составе 80 тысяч человек под командованием Вреде движется к Рейну
Далее король Вюртемберга сообщал, что под давлением присутствия этой армии он вынужден присоединить контингент своих войск к баварским и что вскоре Майнц будет окружён стотысячной армией. Это неожиданное дезертирство полностью изменило план всей военной кампании, и вся предшествовавшая подготовка, чтобы сделать главным театром войны пространство между Эльбой и Одером, оказалась бесполезной.
«С этого момента всё было потеряно»
О положении, сложившемся на начало сентября, В. Слоон сообщает в «Новом жизнеописании Наполеона»: «В великой армии оставалось под ружьём около 250 тысяч человек. Мародёрство всё более усиливалось, и окрестности стоянок французских войск были опустошены. Германские крестьяне и горожане, побуждаемые чувством патриотизма, с замечательным равнодушием относились к сожжению своих жилищ и разорению всего хозяйства. При таких обстоятельствах во французском лагере стало обнаруживаться подавленное настроение, тогда как у союзников робость постепенно сменилась мужеством, а взаимные пререкания – единодушием».
5–6 сентября в сражении при Денневице Бернадот, командовавший Северной армией союзников, разгромил корпус Нея и отбросил его от Берлина. Французы потеряли до 18 тысяч человек, в том числе 16 тысяч пленными, что было позорно для армии Наполеона. Противнику также досталось 60 орудий с 400 зарядными и патронными ящиками и четыре знамени. Александр I прислал Бернадоту за эту победу орден Святого Георгия I степени, император Австрии – орден Марии Терезии, а прусский король – Большой Железный крест.

Маршал Ней
Поражение Нея ещё раз показало, что маршалы Наполеона были лишь блестящими исполнителями его приказов, но сами командовать большими соединениями сил (несколько корпусов, армий) не могли. Впрочем, и кадровый состав вооружённых сил Франции после 1812 года изменился не в лучшую сторону. В. Слоон писал по этому поводу:
«В общей сложности получалось до чрезвычайности невыгодное для французов нравственное впечатление, перед которым совершенно стушёвывалась победа, одержанная ими под Дрезденом. Французы всё ещё великолепно сражались в присутствии Наполеона, но без него блестящие их боевые качества оказывались словно парализованными. Очевидно, что война успела уже им поднадоесть».
Дальнейший ход кампании 1813 года можно уподобить игре в кошки-мышки. Поочередно то одна, то другая армия союзников «делала демонстрацию», выманивая противника на себя. Как только Наполеон начинал движение, союзная армия ретировалась. Очевидец событий того времени вспоминал:
«Когда мы [гвардия] находимся на одном конце, то неприятели обеспокоивают нас на другом, пользуясь нашим отсутствием. Так что мы принуждены бываем немедленно туда поспешать, чтобы обуздать их дерзость. Такая тактика может быть весьма занимательна для них, но не столько для нас. Войска наши устают от маршей и контрмаршей».

