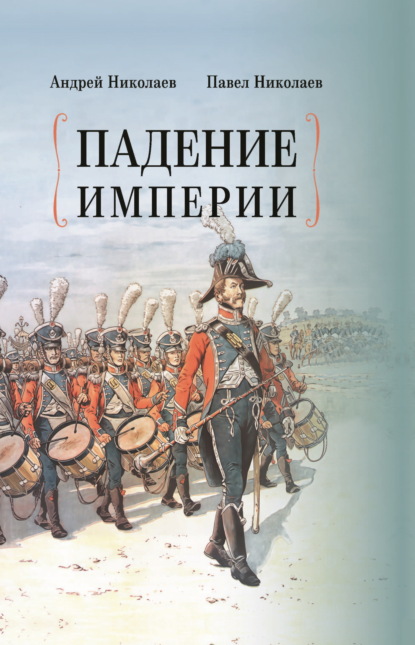
Полная версия:
Падение империи
На 31 (19) декабря 1812 года в русской армии насчитывалось 62 432 пехотинца, 15 440 кавалеристов и 8 575 артиллеристов при 533 орудиях. Итого 85 447 человек, а с авангардами и отдельными отрядами – до 100 тысяч. Основные силы русской армии под командованием Чичагова двинулись в Пруссию, и 6 января части генерала Витгенштейна заняли её столицу – Кёнигсберг.
Царь сразу взял на себя миссию освободителя Европы от засилья Наполеона. Поэтому Кутузов дал Витгенштейну строгую инструкцию, по которой он обязывался следить, «чтобы войска наши были признаваемые жителями яко избавители, а отнюдь не завоеватели».
Пруссию защищали корпуса генерала Макдональда и Йорка! Последний из них 11 января подписал с генералом И.И. Дибичем договор о перемирии (Таурогенская конвенция) его корпуса с российскими войсками. Наполеон так оценил это событие:
– Мир казался мне очень возможным прежде от падения генерала Йорка. Теперь я больше о нём не думаю. Поступок Йорка вскружит русскому кабинету голову. Это великое политическое событие.
Крайне важной целью для русской армии была Варшава. Это направление прикрывал сильный австрийский корпус генерала Шварценберга. Эти войска в военных действиях 1812 года практически не участвовали и сохраняли свою боеспособность. Но, к счастью для русской армии, австрийцы и теперь не рвались проливать кровь за своего союзника и не спеша отступали к границам своего отечества. Возмущённому Евгению Богарне, командовавшему французскими войсками, Шварценберг так объяснял свою «тактику»:
«После страшных потерь, испытанных в эту кампанию, мне кажется, что главная цель, к которой надлежит стремиться в настоящее время, подчинить ей все остальные, – это беречь наличные войска со всевозможной экономией. Исходя из этой точки зрения, я думаю, что следует избегать боёв в открытом поле, так как они повлекут за собой только значительные потери, которые не могут окупиться сохранением нескольких миль территории в то время, когда покинуты уже обширные провинции».
Милорадович был уже в виду Варшавы. Князь Шварценберг просил его подойти ещё ближе, дабы иметь благовидный предлог очистить город. Когда желание было исполнено, он прислал сказать, что сдаёт Варшаву, но для чести войск своих и избежания всякого нарекания от своих союзников просит не признавать пленными находящихся в Варшаве больных воинских чинов, принадлежавших к разным державам, обращаться с ними человеколюбиво и не наказывать жителей, обнаруживших поступками и речами неприязненные отношения к России. Милорадович отвечал:
– Я испрошу у князя Кутузова разрешение на первую статью. Что касается до последних двух, то по ним не нужно заключать условий, ибо всему свету известно милосердие императора, всегда служившее основанием поведения русских войск (А.И. Михайловский-Данилевский).

М.И. Кутузов
8 февраля Милорадович принимал капитуляцию Варшавы. Ф.Н. Глинка вспоминал:
«Все мы в парадных мундирах собрались в небольшом садовом домике, где остановился генерал Милорадович. Тут было человек 12 генералов. Пред крыльцом стоял в строю прекраснейший эскадрон Ахтырского полка: зрители пленялись его картинным видом. Ровно в два часа передовой посланный возвестил скорое прибытие депутатов. Любопытство подвинуло всех к окнам. Сперва показались вершники из Польской народной гвардии, и вдруг богатая карета, восемью английскими лошадьми запряжённая, сопровождаемая отрядом сей же гвардии, загремела и остановилась у крыльца. Эскадрон отдал честь.
Вслед за первою подъехала такая же другая. Эскадрон повторил приветствие. Префект Варшавы, мэр, подпрефект, два члена духовенства, бургомистр и ещё пять или шесть человек в нарядных шитых мундирах, с разноцветными перевязями через плечо, собрались на крыльце. Двери настежь! – И гости вступили в комнату. Между ними находился тот самый старик, который вручал ключи Суворову. Толпа отшатнулась – генерал Милорадович выступил вперёд.
– Столица герцогства Варшавского, в знак миролюбивого приветствия победоносному русскому воинству, посылает сие, – сказал префект, поднося хлеб и соль.
– Вот и залог её покорности знаменитому оружию всеавгустейшего императора Александра Первого, – прибавил мэр, подал знак – и старец вручил генералу золотые ключи. Все поклонились очень низко. У некоторых блеснули слёзы на глазах.
М.И. Кутузов в этот же день сообщал об этом знаменательном событии супруге: „Сейчас получил ключи от Варшавы. Войска было велено расположить в предместьях, а самого города не занимать. Французская партия рада очень, что мы её защитили от буйства народа, который зол выше меры“.
„Французская партия“ – это сторонники Наполеона, которого отнюдь не все поляки воспринимали как своего защитника и освободителя. Впрочем, они и к русским относились не очень».
«В герцогстве Варшавском никто, однако, не встречал русских как своих избавителей. Одни евреи каждого местечка, лежащего по дороге, где проходили войска, выносили разноцветные хоругви с изображением на них вензеля государя; при приближении русских они били в барабаны и играли на трубах. Иногда показывались поляки, которые, по обыкновению своему, сами не знали, чего хотели; одни говорили, что им наскучило иго французов, другие же смотрели на русских с сердитыми лицами, как следствие вкоренившихся в них к России чувств, так и потому, что каждый шаг русской армии вперёд отодвигал час восстановления Польши»[2].
За отступившими австрийскими войсками (Витгенштейн) был направлен корпус Ф.В. Сакена, а главные силы армии двинулись на Калиш. В итоге общего наступления французы были отброшены за Одер. 1 февраля под Калишем Винцингероде разбил корпус генерала Ренье. Французы потеряли 1 000 человек убитыми и ранеными, 2 500 были взяты в плен.
В Польше Кутузов устроил свою штаб-квартиру, куда вскоре прибыл царь. Было решено приостановить преследование противника и дать отдохнуть своим войскам, наладив за это время отношения с Пруссией.
28 февраля в Калише Пруссия заключила договор с Россией о совместной борьбе с Наполеоном, выставив для начала 80 тысяч солдат. 15 марта в Бреславле Александр I встретился с Фридрихом Вильгельмом III. Венценосные приятели бросились в объятия друг друга и, по наблюдению очевидцев, «молча несколько минут прижимали один другого к сердцу».
В тот же день из Бреславля Александр I отправил письмо другому своему «брату» Францу I: «Хотел бы приехать в Вену чтобы забыть в ваших объятиях о прошлом и возобновить вашему величеству заверения в моей искренней привязанности».
Кутузов между тем врагу передышку не собирался давать и приказал Витгенштейну: «Дабы не оставить неприятеля в покое, нужно назначить большое число малых партий, которые, перейдя Одер, наносили бы ему страх не только в окрестностях Берлина, но и до самой Эльбы. В это самое время партизаны Главной армии, перейдя Одер между Франкфуртом и Глогау, устремятся в Саксонию».
Летучие и партизанские отряды бороздили Центральную и Северную Германию практически безнаказанно, так как у противника почти не было кавалерии. (Потерю Великой армией в 30 тысяч лошадей немыслимо было восполнить за короткий срок.) Эти отряды захватили отдельные области противника, уничтожили мелкие воинские подразделения, нарушили операционные линии, сеяли панику в его рядах. Действовали партизаны жёстко, в полном соответствии с законами военного времени.
– Лёгкие кавалерийские отряды творят в стране величайшие беспорядки: жалобы поступают не только от жителей, но и от офицеров этих отрядов, равно как и от тех, кто идёт вслед за ними.
Но, несмотря на эти перегибы, партизанские отряды свою задачу выполнили, иногда даже захватывали целые города: 4 марта отряд генерала Н.Г Репнина занял Берлин, 18 марта был взят Франкфурт-на-Одере, 21 марта – Гамбург, 3 апреля капитулировал Лейпциг.
Наполеон узнавал о потерях его войск с большим опозданием и с гневом писал Евгению Богарне: «Я не имею возможности дать Вам ни одного приказания, ни инструкции, раз Вы не исполняете вашего долга и не посылаете мне никаких подробностей, никаких деталей, никаких расчётов и ничего мне не говорите, ни Вы сами, ни Ваш штаб. Я не знаю, какие генералы командуют корпусами; я не знаю, где они находятся; я не знаю ни Вашего положения, ни какая у Вас артиллерия. Я не получаю никаких сведений; я во всех отношениях нахожусь в совершенных потёмках. Как же Вы хотите, чтобы я управлял моей армией?»
Порадовать отчима Богарне было нечем. 19 марта под Люнебургом отряд генерал-майора А.И. Чернышёва одержал победу над войсками генерала Морана. Было пленено 3 200 солдат и офицеров, взято 10 пушек. В плен попал и сам Моран.
24 февраля во время движения к Берлину в засаду, устроенную А.Х. Бенкендорфом, попал 4-й итальянский конно-егерский корпус и был почти полностью уничтожен. Для французов это была очень тяжёлая потеря. С этого времени они стали панически бояться казаков, которые полностью хозяйничали в их тылах.
Успехи армии и партизан воодушевляли российский генералитет, и Кутузова подталкивали к переходу в наступление всей армии. Но фельдмаршал не спешил и так объяснял свои действия П.Х. Витгенштейну:
«Позвольте мне ещё раз повторить моё мнение о ваших наступательных действиях. Я знаю, что в Германии ропщут на нашу медлительность, полагая, будто всякое движение вперёд равносильно победе, а каждый потерянный день обозначает поражение. Но я, по моему званию будучи обязан всё подвергать расчёту, вынужден помышлять о расстоянии, отделяющем наши запасные войска от Эльбы, и о силах, какие неприятель может нам противопоставить.
Ежели мы и одержим небольшие поверхности над малыми передовыми их отрядами, то они, после поражения своего, отступят на главные свои силы и будут, по мере отступления, увеличиваться подобно снежному кому. Я должен уравнивать постоянное ослабление наше в быстрых наступательных действиях с постепенным удалением от источников сил наших. Это обстоятельство возлагает на меня обязанность поселить те же мысли и в корпусных командирах».
После двухмесячных колебаний и уговоров Александра I прусский король Фридрих Вильгельм III наконец согласился порвать с Наполеоном. 27 (15) февраля был подписан Калишский договор о союзе с Россией. В нём говорилось:
«Ст. II. Между Россией и Пруссией заключается наступательный и оборонительный союз на время происходящей ныне войны. Его ближайшая цель – вновь устроить Пруссию в таких границах, которые обеспечивали бы спокойствие обоих государств и служили бы ему гарантиями. Так как сия двоякая задача не может быть разрешена, пока военные силы Франции занимают позиции или укрепления на севере Германии, равным образом, пока держава эта будет там иметь какое-нибудь влияние, то главные военные действия будут обращены прежде всего на этот существенный пункт.
Ст. III. Впоследствие предыдущей статьи, обе высокодоговаривающиеся стороны согласились взаимно оказывать друг другу вспоможение всеми средствами, какие Провидение вручило в их распоряжение; но чтобы определить точнее те силы, которые будут немедленно введены в действие, его величество император всероссийский обязуется выставить в поле 150 тыс. человек, и его величество король прусский – по меньшей мере 80 тысяч человек, не считая крепостных гарнизонов…»
Союзный договор был важен в первую очередь в психологическом плане: русские солдаты с удовлетворением приняли известие о том, что получили поддержку на бранных полях зарубежья. «Весь немецкий народ за нас, даже саксонцы. Немецкие государства не в силах больше остановить движение масс. Им остаётся только примкнуть к нам».
4 марта французские войска начали отход из Берлина. «Тотчас же, – вспоминал Лабом, – казаки Чернышёва вступили в него с такою быстротою, что следовали за нашими солдатами по мере выхода из города, и если б не случились гренадеры, то они захватили бы слабый наш арьергард. Чтобы пощадить Берлин от опасности, могущей произойти при сражении, русские преследовали войска, очищавшие город, холодным оружием».
А вот как описывался захват Берлина в журнале: «С утра до трёх часов дня в город непрерывно вступали русские войска: казаки, лёгкая кавалерия, пехота и артиллерия, всего от 12 до 13 тысяч человек, принадлежащие к армии Витгенштейна и корпусу князя Репнина. Кавалерией командовал генерал Чернышёв. Из них две трети стали преследовать французов, а остальные расположились в Люстгартене, на Дворцовой площади и Унтер-ден-Линден. Многие казаки рыскали по городу и выискивали тех французов, которые ещё попрятались и хотели быть дезертирами „великой“ французской армии. Было собрано более 200 человек, и из воды вытащили на следующий день несколько ружей; конечно, туда побросали их сами миролюбиво настроенные французы. В здешнем французском лазарете оказалось 1 600 больных.
С утра на Дворцовой площади были поставлены телеги, наполненные хлебом, селёдкой и водкой. Каждый русский мог там попотчеваться. Но ещё больше продовольствия, чем было выставлено на площади, раздали русским сами жители. Каждый делился с ними едой, питьём и сердцем. „Русс, прусс – братья“, – говорили казаки.
18 марта был взят Франкфурт-на-Одере, 21-го – Гамбург. При вступлении в Гамбург отряда полковника Тетенборна звонили в колокола. Стреляли из пушек и пистолетов, и ликовавшие жители праздновали день своего избавления. Гамбург принадлежал тогда Французской империи; следственно, русские знамёна развились в пределах ея, менее нежели по прошествии осьми месяцев с того времени, как шестисоттысячная армия Наполеона перешла через Неман и, так сказать, наводнила Россию.
Сенат Гамбурга воспринял свою власть, уже семь лет как французами уничтоженную, и первым действием его было отправление в Англию корабля с объявлением, что свобода торговли восстановлена в Северной Германии. На сем корабле также послан был в полном вооружении казак Вишиченко; прибытие его в Лондон возбудило живейшее любопытство, все наперебой угощали храброго гонца».
25 марта Кутузов обратился со следующим воззванием к народам Европы; обещая им свободу и суверенитет:
«Мечтания о всеобщей монархии истреблены беспрерывными победами российских армий. Прекрасная Франция, сильная сама по себе, пусть займётся внутренним своим благосостоянием. Покушения иноплеменных никогда не возмутят природных её границ. Но да будет и ей известно, что другие державы желают равномерно постоянного спокойствия для своих народов и что они не положат оружия, доколе не восстановят и не утвердят прочным образом политической независимости всех государств в Европе».
В обращении фельдмаршала Кутузова к народам Европы отразился взгляд царя на цель заграничного похода – освобождение Европы от власти Наполеона. Но на каких условиях? Возвращение Франции в её естественные границы. То есть лишение её всех территориальных приобретений. С этим, как показали дальнейшие события, Наполеон был категорически не согласен.
«Мои знамёна ещё побеждают, но…»
В октябре произошло два события, в корне изменивших положение воюющих сторон: русская армия потеряла своего главнокомандующего, а во французскую оный вернулся. Михаил Илларионович Кутузов скончался 28 (16) апреля в небольшом силезском городе Бунцлау. Вдове фельдмаршала царь писал:
«Болезненная и великая не для одних вас, но и для всего отечества потеря. Не вы одни проливаете о нём слёзы: с вами плачу я и плачет вся Россия. Бог, призвавший его к себе, да утешит вас тем, что имя и дела его останутся бессмертными. Благодарное Отечество не забудет никогда заслуги его»[3].
В рядах русской армии находился в это время писатель Фёдор Николаевич Глинка. Вот его отклик на кончину Кутузова:
«Наконец сбылись мрачные предчувствия, оправдались печальные догадки: неумолимой судьбе или непостижимому Провидению угодно было лишить нас великого человека!.. Его уже нет!.. В Бунцлау прекратилась жизнь мужа знаменитого.
Давно ли, вызванный из глубокого уединения общим голосом народа, восстал он от бездействия и ополчился великим умом своим на защиту отечества? Давно ли грады и области называли его спасителем? Матери несли младенцев, и внуки вели дедов своих, чтобы удостоиться его лицезрения? Давно ли сам государь назвал его Светлейшим и фельдмаршалом?
Еще не обсохла кровь врагов, пролитая им на полях Бородинских; ещё не истлели трупы, которыми устлал он великое пространство от Оки до Немана; ещё блестят трофеи, им собранные, зеленеют лавры, им пожатые; ещё не успела обтечь круг земной слава, гремящая о нём… А его уже нет!»
Умирая, Михаил Илларионович завещал:
– Прах мой пусть отвезут на Родину, а сердце моё похороните здесь, у саксонской дороги, докуда я довершил с солдатами свой путь победный, чтобы мои солдаты – сыны России – знали, что сердцем я остался с ними.
Завещание Кутузова было исполнено. На памятнике фельдмаршалу на месте его кончины было начертано: «До сих мест князь Кутузов Смоленский довёл победоносные войска, и здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас Отечество своё и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя!»
…15 апреля в четыре часа утра Наполеон выехал из Сен-Клу в Майнц, куда прибыл в полночь 16 апреля. В Майнце император принял командование армией. В общей сложности в ней было 12 корпусов, в которых состояло 235 тысяч солдат и офицеров, в действительности налицо имелось 135 тысяч человек. Под командованием вице-короля Евгения Богарне – ещё 47 тысяч. Наполеон провёл смотр армии, о составе которой заявил:
– Не хватало одного существенного элемента успеха: им [солдатам] надлежало быть двумя годами старше и опытнее.
Людские резервы Франции находились на грани полного истощения, на военную службу призывались юноши семнадцати лет. Слишком мало было кавалерии, лучшие орудия потеряли в России. По поводу их утраты император говорил:
– Чем хуже войска, тем нужнее для них артиллерия. Генеральные сражения выигрываются артиллерией.
В армии не хватало санитаров и штабистов, генеральный штаб сильно ужался. Словом, новоскомплектованная армия Франции уже не была по своему составу и духу Великой армией. Недоукомплектование армии напомнило императору молодость, и он заявил:
– Я буду вести эту войну как генерал Бонапарт.
1 мая авангард французской армии вытеснил русские аванпосты из Лютцена. В стычке, случившейся в Ропахском ущелье, погиб маршал Бессьер. Это была большая потеря для Наполеона, который тяжело перенёс смерть любимца его гвардии.
На следующий день произошло сражение при Лютцене. С французской стороны в сражении участвовало 100 тысяч человек, со стороны русских и пруссов – 72 тысячи. Французами командовал Наполеон, его противниками – Витгенштейн и Блюхер.
Сражение было ожесточённым, о его кульминации Вальтер Скотт писал: «Невзирая на самое упорное сопротивление, союзники овладели деревнею Кайей, на которую упирался центр французской армии. Эта опасная минута была достойна гения Наполеона, и он не изменил себе. Атакованный во фланг, тогда как колонны его подвигались вперёд, он успел посредством искусного движения, в круг повернуть оба крыла своих так, чтобы обойти ими неприятеля. Сам же он поспешил со своей гвардией на помощь к центру, почти совершенно опрокинутому. Сражение было тем отчаяннее и кровопролитнее, что с одной стороны дрался цвет прусского юношества, оставивший свои университеты с тем, чтобы ополчиться за дело народной чести и независимости; а с другой молодые парижане, из коих многие высших сословий, мужественно старались поддержать свою давнюю славу народной храбрости. Те и другие сражались в присутствии своих государей, поддерживали честь земли своей и заплатили щедрую дань кровопролитию сего дня. Союзники искусно вывели утомлённые войска свои с поля битвы, как будто из клещей, составившихся из крыльев Наполеона.

Сражение при Лютцене
Сражение продолжалось всю ночь со 2 на 3 мая. Лабом вспоминал:
– Одни только три горящие деревни освещали поле сражения, как вдруг на правом фланге армии отряд неприятельской кавалерии, стремительно ударивший на передовые наши посты, опрокинул их и гнал до самых батальон-каре, позади коих находился сам император. Темнота была столь велика, а сражающиеся так сблизились, что не могли различить друг друга, никто не знал, кто победитель и кто побеждённый.
Тот же Лабом писал позднее: «Раненые и умирающие, увидя Наполеона, приветствовали его своими восклицаниями; другие с восхищением стремились в огонь, и если выходили из оного со смертельными ранами, то последний крик их относился к императору. Сила, внушаемая его присутствием, соединялась с привычкой к сражению. Чувствуя всю важность всей битвы, Наполеон с того времени никогда ещё не подвергал себя столько опасности, как в то время, ибо был уверен, что пример его поощрит юношей, которых всегда с успехом обольщал словами: честь и Отечество»[4].
Перед сражением Наполеон двое суток не спал. На исходе Лютценской битвы, уверенный в успехе, он посреди корпуса Мармона расстелил медвежью шкуру и лёг на неё. Через час его разбудили, чтобы поздравить с победой. Вскочив на своём ложе, император иронически заметил на сделанный ему доклад:
– Сами видите, всё лучшее случается во сне!
Союзники отступили за Эльбу, потеряв 12 тысяч человек (французы – на три тысячи больше). Уход на другую сторону реки прошёл организованно и без жертв. Наполеона это несколько озадачило:
– Как?! Такая битва – и никаких результатов?! Ни одного пленного?! Эти люди не оставили мне и гвоздя!
Больше того, в сражении не участвовал двадцатитысячный корпус русской армии, то есть на поле битвы французы имели двойное (!) превосходство. Ф.Н. Глинка рассказывал об этой оплошности главнокомандующего следующее:
«Желая на другой день возобновить сражение, главнокомандующий не употребил в дело корпуса Милорадовича, который простоял в Цайце. Храбрый ученик Суворова плакал, как ребёнок, слыша первый раз в жизни пушечные выстрелы и не участвуя в битве. Советовали графу Витгенштейну послать за его корпусом, но он не согласился, произнеся: „Сражаясь с Наполеоном, должно иметь за собой сильный резерв“».
Словом, у союзников были основания считать, что они не проиграли сражение. В «Записках о походе 1813 года» А.М. Михайловского-Данилевского (СПб., 1834) читаем:
«Поверхность была на стороне союзников, которые провели ночь гораздо впереди тех мест, откуда они поутру выступили в дело; французы же, невзирая на то, что у них было тридцатью тысячами войска более, чем у нас, не только не выиграли ни шагу земли, но потеряли пять орудий. Наполеон приписал победу себе не потому, что одержал её на поле сражения, но по причине отступления союзников за Эльбу. С ним согласились иностранные историки, основываясь, с одной стороны, на свидетельстве французских бюллетеней, а с другой – на молчании русских, ибо до сих пор ни один из наших соотечественников не принял на себя труда опровергнуть ложные на сей счёт показания наших неприятелей и вывесть Европу из заблуждения».
Граф Витгенштейн намеревался на другой день возобновить сражение: надежда на успех была основательна, ибо неприятели, как впоследствии оказалось, отступили. Сверх того, все корпуса их введены были в дело, в то время как у нас находился свежий корпус Милорадовича, не участвовавший в сражении и простоявший весь день в Цайце.
Но когда Александр убедился в необходимости отказаться от продолжения боя на следующий день, он ночью отправился в дом, который занимал король, и приказал разбудить его, чтобы сообщить союзнику эту печальную весть. Фридрих Вильгельм, заметно огорчённый, отвечал с некоторой запальчивостью: «Это мне знакомо; если только мы начнём отступать, то не остановимся на Эльбе, но перейдём также за Вислу; действуя таким образом, я себя снова вижу в Мемеле». Император удалился, сказав: «То же самое, как и при Ауэрштедте».
Да, результат сражения был спорным, но каждая из сторон объявила его своей победой. Александр I наградил Витгенштейна орденом Андрея Первозванного, а Блюхера – Георгия II степени.
Как говорилось выше, Наполеон остался неудовлетворённым исходом битвы, его порадовало только то, как держали себя в сражении новобранцы:
– Эти юноши – герои, с ними я бы мог сделать всё что угодно.
Немецкий историк Людвиг, оценивая кампанию 1813 года, в целом пенял Наполеону за то, что он уделял много времени политике в ущерб службе Молоху:
«Едва одержав победу как генерал, он вновь позволяет взять верх сидящему в нём политику и императору: рассылает во все концы преувеличенные сообщения о победе, принуждает колеблющегося короля Саксонии присоединиться, говорит князьям Рейнского Союза о Провидении и военном счастье, дабы удержать их на привязи.
Даже посылает своего министра к русским форпостам, недолго думая, и вполне бесцеремонно предлагает царю обменять Польшу на Пруссию. Царь уклоняется от ответа, и тогда Наполеон пишет императору письмо, в котором прибегает к совершенно необычному для него самохвальству: „Хотя я сам руководил всеми передвижениями своей армии и временами выдвигался вперёд на досягаемость картечного выстрела, со мной ничего неприятного не случилось“».

