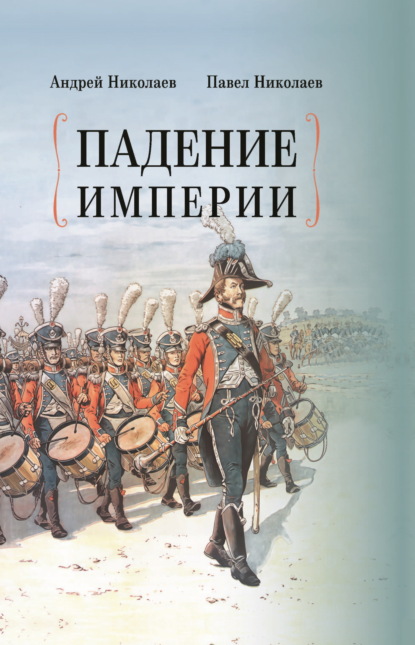
Полная версия:
Падение империи
Не удалась Наполеону и другая попытка (о ней писал Д.А. Михайловский-Данилевский) завязать отношения с царём:
«Командир отправился к авангарду неприятеля. Оттуда в тот же день Макдональд прислал графу Милорадовичу следующее письмо: „Обер-шталмейстер герцог Виченцкий спрашивает: угодно ли его величеству императору Александру принять его, в таком случае: где, когда и в котором часу? Прошу вас уведомить меня: могу ли надеяться на получение ответа в 24 часа?“
Под диктовку императора Милорадович написал: „Для совершенного удовлетворения вашего желания, должен я известить вас, что немедленно проводил к его императорскому величеству ваше отношение. Но, как император находится в разъездах по разным корпусам, то легко может статься, что донесение моё не дойдёт сегодня до его величества, следственно, можно предполагать, что не прежде, как завтра вечером или послезавтра, буду я в состоянии сообщить вам повеления, которые мне пришлют“».
Наладить прямой диалог с царём Наполеону не удалось. Но пока шли дополнительные игры, император не упускал из вида и боевые действия. Французы теснили союзные армии. Прусский король говорил:
– Я ожидал иного! Мы надеялись идти на запад, а движемся на восток.
А русский офицер Фёдор Глинка писал: «Соединённые армии отступают за Эльбу. Наша армия довольно покойна: арьергард выдерживает весь натиск. Покамест отделываемся кое-как перестрелками».
Арьергардом командовал генерал А.М. Милорадович. За полторы недели арьергардных боёв он сумел отбить все атаки французов, не дав им побеспокоить основную армию, которая в полном порядке заняла приготовленные позиции у Бауцена. «Мы уступаем ему (неприятелю) не более пяти вёрст в день, – отмечал в походном дневнике Глинка. – Притом, несмотря на повседневные сражения с 3 мая, арьергард имел самый малый урон».
Царь высоко оценил действия арьергарда. 13 мая Милорадович был возведён в графское достоинство.
Наступая вглубь Германии, Наполеон почувствовал себя хозяином положения и решил сразу расправиться с непокорными, с теми, кто изменил ему. И отдал следующее распоряжение: «Следует сразу арестовать всех жителей Гамбурга, которые состояли в должности сенаторов. Их нужно отдать под воинский суд и расстрелять пятерых, вина которых наиболее тяжела, а остальных под конвоем отослать во Францию.
Нужно разоружить горожан и расстрелять офицеров ганзейского легиона, а всех остальных, кто был нанят в этот легион, отправить во Францию на каторжные работы. Следует наложить контрибуцию в 50 миллионов на города Гамбург и Любек».
* * *В новом сражении были заинтересованы обе стороны. Наполеон жаждал упрочить свой успех, а союзники хотели доказать всем колеблющимся свои возможности (Австрия в первую очередь), считая Лютценское сражение временной неудачей. Вторая серьёзная схватка соперников проходила 20–21 мая под Бауценом. В окрестностях этого города 115 тысячам французов противостояли 100 тысяч русских и пруссаков.
В одиннадцать утра Наполеон начал атаку на корпус Милорадовича, потеснил его и завладел переправой через реку Шпрее. Затем Удино и Макдональд атаковали левый фланг союзников, что вынудило бросить туда резервы. К вечеру русские и прусские войска были выбиты с передовых позиций, но никаких трофеев противник не захватил. Вернувшись в штаб-квартиру уже в сумерках, Наполеон заявил:
– Достаточно для этого дня. Немного передохнём, а завтра начнём снова.
На второй день сражения Витгенштейн, введённый в заблуждение демонстративными атаками Наполеона против центра и правого фланга союзных войск, стал усиливать за счёт центра левый фланг. Тем временем французы в превосходящих силах атаковали правый фланг союзников, ослабленный по вине Витгенштейна центр не смог оказать ему поддержку. Несмотря на упорное сопротивление русских войск, французы заставили союзников отступить сначала на правом фланге, а затем и в центре позиции.
Направленный на усиление правого фланга Ермолов приказал находящимся под его командованием войскам, а также батальону прусской пехоты следовать к центру; Ермолов препятствовал атакам неприятеля с таким мужеством и упорной храбростью, что дальнейшее продвижение в центре стабилизировалось.
Кстати. Со сражением при Лютцене связан следующий анекдотический случай. А.А. Аракчеев заявил царю, что артиллерия плохо действовала в бою по вине А.П. Ермолова. Александр вызвал генерала к себе и спросил о причине случившегося. Алексей Петрович заявил:
– Орудия точно бездействовали: не было лошадей.
– Вы бы потребовали лошадей у начальствующего артиллерии графа Аракчеева, – удивился недогадливости генерала царь.
– Я несколько раз обращался к нему, но ответа не было, – спокойно доложил Ермолов.
Тогда вызвали Аракчеева. На вопрос Александра о том, почему артиллерии не предоставили лошадей, жалобщик, смутившись, заявил:
– Прошу прощения, Ваше Величество, у меня самого в лошадях был недостаток.
– Вот видите, Ваше Величество, репутация честного человека иногда зависит от скотины, – невозмутимо заключил Алексей Петрович.
Генерал Ермолов был незаурядным военачальником и очень порядочным человеком, его отличали независимость суждений, резкий и острый язык, что, конечно, не всем нравилось. Царский фаворит Аракчеев не любил Алексея Петровича и завидовал его широкой известности в армии.
* * *Общая обстановка на поле сражения складывалась не в пользу союзников, и после прорыва французов в тыл союзных войск последние начали беспорядочно отступать, ибо, как писал очевидец Н.Н. Муравьёв-Карский, «все главнокомандующие и цари уехали, не сделав никакой диспозиции».
В особенно трудное положение попал Ермолов, которому было поручено командование арьергардом; в ходе отступления ему пришлось также спасать 60 орудий, оставшихся без прикрытия. Умело организовав отступление и выдержав близ Рейхенбаха натиск главных сил французов, которыми предводительствовал сам Наполеон, Ермолов заслужил похвалу даже не благоволившего к нему Витгенштейна.
Последний доносил Александру I: «Ермолов дал сильнейший отпор неприятелю и, защищавшись в дефилях[5] и союзах, отступил к ночи на позицию при деревне Кетиц в совершенном порядке, показав во всём сражении искусство в распоряжении, примерную храбрость и мужество, одушевляющие подчинённых среди самих опасностей».
А вот как описывал второй день сражения при Бауцене его участник Михайловский-Данилевский:
«Государь не съезжал с кургана до отступления армии, и перед глазами его была гора, на которой стоял Наполеон, не трогаясь с неё весь день. Вообще, я не видел сражения, в котором бы войска обеих противных сторон менее маневрировали и где главнокомандующие были бы менее деятельные, как в Бауцене. Оба императора не сходили с курганов.
Граф Витгенштейн не оставлял ни на минуту государя и не подъезжал ни разу к войскам, а начальник штаба его, а следовательно, всех российских армий Довре[6] несколько часов на том же самом кургане стоял.
Всё утро до десяти часов французы атаковали наше левое крыло, стоявшее на горах, и были всегда отражаемы. Граф Витгенштейн весьма справедливо сказал государю при сём случае:
– Ручаюсь головой, что это ложная атака. Намерение неприятеля состоит в том, чтобы обойти нас справа и припереть к Богемским горам.
Он отгадал намерение Наполеона, но не сделал ни малейшего распоряжения, чтобы предупредить опасность. Часу в одиннадцатом обнаружилось настоящее намерение неприятеля, он начал обходить правое крыло наше под командой Барклая. Когда неприятели повели против него грозные силы, нам нечем уже было его подкрепить, слишком далеко было вести к нему войска от Милорадовича, а из центра нельзя было тронуть ни одного батальона, потому что стоявшая против середины нашей боевой линии французская конница, кажется, того только и ожидала».
Победа Наполеона была бесспорной, но её омрачила личная потеря императора: «Наполеон в сопровождении Коленкура и своего близкого друга Дюрока бросается вскачь в самую гущу боя. Затем взлетает галопом на холм. Рядом с ним валится дерево. На вершине холма его догоняет молоденький офицер и, запнувшись, выдавливает:
– Маршал Дюрок убит!
– Этого не может быть, он только что был рядом со мной!
– Ядро, свалившее дерево, угодило в него.
Император медленно возвращается в лагерь и говорит:
– Когда же судьба наконец войдёт в моё положение?! Когда же это кончится?! Коленкур, мои знамёна ещё побеждают, но моя звезда вот-вот померкнет.
Дюрок, однако, не убит – он смертельно ранен. Ужасен вид растерзанного тела друга. Последнее свидание, оба в слезах. Умирающий говорит:
– Я же говорил тебе ещё под Дрезденом, внутренний голос… Дай мне опиум.
Этот тон, это внезапное обращение на „ты“, последняя просьба человека, презиравшего смерть. Император, шатаясь, выходит из палатки» (Людвиг).
В соответствии с приказом Наполеона маршал Ней должен был обойти правый фланг союзных войск и перерезать им дороги к отступлению. Это ему сделать не удалось, но перед угрозой окружения было решено отступить. Отход с поля боя начался около четырёх часов пополудни. Александр I при этом сказал:
– Я не желаю быть свидетелем этого поражения.
Благополучному отступлению русских и пруссаков способствовала буря с сильным дождём. Потери союзников составили 15 тысяч человек, французов – 13 тысяч. Из-за малочисленности кавалерии Наполеону не удалось взять у противника ни пленных, ни артиллерии.
Наполеон одержал вторую победу, но её разумность опять была довольно спорной. Император вновь показал, что полководческое искусство при нём, что признал и Александр I, который «согласился, что союзники проиграли битву из-за выдающихся талантов Наполеона. Хотя обстоятельства складывались не в его пользу». И это заявление царь сделал в узком кругу приближённых, к армии же монарх обратился совсем по-другому:
– В продолжавшееся 8-го и 9-го числа[7] знаменитое сражение бауценские поля были свидетелями твёрдости и мужества, с какими противостояли вы превосходнейшей против вас неприятельской силе. Движение, какое надлежало потом взять для завлечения далее неприятеля, сделано было с наилучшим порядком, к удивлению самого неприятеля.
Рядовым и младшим офицерам пытались внушить, что под Бауценом союзники просто отступили по ранее разработанному плану, что идёт по замыслу командования. Между тем с руководством русской армии не всё было гладко. Некоторые генералы просили царя сменить главнокомандующего. М.А. Милорадович вспоминал:
– Я поехал поутру к графу Витгенштейну и сказал ему: зная благородный образ ваших мыслей, я намерен с вами объясниться откровенно. Беспорядки в армии умножаются ежедневно. Все на вас ропщут. Благо Отечества требует, чтобы назначили на место ваше другого главнокомандующего.
– Вы старше[8] меня, – отвечал граф, – и я охотно буду служить под начальством вашим или другого, кого император на место моё определит.
25 мая Александр I назначил главнокомандующим русской армией Барклая де Толли, который отличился в сражении на подступах к Бауцену (до Бауценского сражения), предотвратив заход французов в тыл союзников. Ожесточённое сражение шло до десяти часов вечера. Французы потеряли три тысячи человек, в плен было взято две тысячи, в том числе четыре генерала. Русским досталось ещё и семь орудий противника.
Барклай получил за это сражение высшую российскую награду – орден Св. Андрея Первозванного. Были у него и другие немалые заслуги, особенно относящиеся к первому периоду Отечественной войны 1812 года.
* * *После двух побед Наполеон не проявлял особой радости: и победы дались труднее, чем он рассчитывал, и он пережил тяжёлые личные утраты. Перед битвой при Лютцене 1 мая на его глазах был убит его старый друг маршал Ж.Б. Бессьер, а после битвы при Бауцене, в арьергардном бою под Гёрлицем 22 мая, когда император наблюдал за отступлением союзников, неприятельское ядро поразило его самого близкого друга обер-гофмаршала Ж. Дюрока. Российский литератор М. Булгарин писал о нём:
«Дюрок был прекрасный мужчина, чрезвычайно стройный и одевался щегольски. Волосы у него были тёмного цвета, остриженные ровно на всей голове, и курчавые. Он не пудрился. Впервые увидели мы человека в военном мундире без косы и без пудры. Его причёска вошла в моду между дамами и называлась a la Duroc. Ему было тогда только 29 лет от роду (он родился в 1772 году), но он уже был опытен в делах, будучи доверенным лицом гениального человека. Дюрок обладал необыкновенным природным умом, был красноречив, но воздерживался в речах, чуждаясь всякого фанфаронства, был чрезвычайно любезен в общении и ловок».
После гибели Ланна в 1809 году ничто (даже русскую катастрофу) Наполеон не переживал так тяжело, как смерть в течение трёх недель Бессьера и Дюрока. «Эта двойная потеря была самым зловещим предзнаменованием собственной судьбы его», – заметил как-то Вальтер Скотт.
«Я желаю мира, как никто другой»
4 июня (23 мая) в городе Плейсвице было заключено до 20 (8) июля перемирие между союзниками и Наполеоном. Военному министру А. Кларку император так объяснял мотивы своих действий: «Я решился по двум причинам: вследствие недостатка кавалерии, мешавшего мне нанести большой удар, и враждебных отношений Австрии».
Непростая ситуация была и у союзников. А.И. Михайловский-Данилевский писал о положении русской армии: «Когда заключено было перемирие, у нас были полки, в которых под ружьём считалось от полутораста до двухсот человек; некоторыми из них командовали капитаны; бригады и полки были так перемешаны, что иные генералы не знали, какие именно войска состояли под их начальством. В артиллерийских снарядах уже под Лютценом оказался чувствительный недостаток, а при Бауцене почти все снаряды были расстреляны; запасные парки далеко отстали от армии; сверх того, нижние чины претерпевали нужду в одежде и обуви».
Дошло до парадоксальной ситуации. В двух сражениях русская артиллерия расстреляла почти весь боезапас и были вынуждена добывать ядра экзотическим способом, приспосабливая снаряды периода Семилетней войны к калибру своих орудий.
Словом, мирная передышка была нужна для подготовки более эффективного истребления друг друга, и наиболее непримиримым по отношению к противнику был Александр I. Наполеон, напротив, надеялся использовать мирную передышку для заключения всеобщего мира. К этому его подталкивала и ситуация, сложившаяся в Испании. Там 21 (9) июня при Виктории А. Веллингтон разгромил армию короля Жозефа. Испания была освобождена от французов.
Более того, 27 (15) июня Австрия подписала договор о присоединении к союзникам (Рейхенбахская конвенция). Первая статья договора гласила: «Его Величество[9] обязуется объявить войну Франции и присоединить свои войска к войскам российским и прусским, если до двадцатого числа сего года Францией не будут приняты эти условия. Суть следующие:
1) уничтожение Варшавского герцогства и раздел входящих в его состав провинций между Россией, Австрией и Пруссией без всякого вмешательства со стороны французского правительства;
2) расширение Пруссии вследствие этого раздела и вследствие уступки города Данцига с его территорией, очищение всех крепостей в русских владениях и герцогстве Варшавском;
3) возвращение Иллирийской провинции Австрии;
4) восстановление ганзейских городов как городов независимых».
Впечатление от этого документа такое, что его подписали победители, то есть нанесённые им поражения они воспринимали спокойно, будучи уверенными в своих возможностях. Чтобы эти возможности сделать реальностью, была нужна более длительная передышка. Эту миссию взвалил на свои плечи Меттерних. И 28 (16) июня он как снег на голову «свалился» на Наполеона.
Политическая обстановка складывалась не в пользу императора Франции и вынуждала его уступать своим противникам, так он согласился принять министра иностранных дел Австрии Клеменса Меттерниха. Приём проходил во дворце Марколини в Дрездене. Император стоял посреди комнаты со шпагой в руке и треуголкой у локтя. Спросил о здоровье тестя, императора Франца I, и сразу перешёл в наступление:
«Наглость Австрии беспредельна. Сладкими речами она пытается отобрать у меня Далмацию и Истрию. Нет в мире ничего более лживого, чем венский двор! Отдай я им сегодня то, что они просят, – завтра они потребуют Италию и Германию.
Среди этих людей, рождённых королями, кровные узы не имеют ровно никакого значения. Интересы дочерей и внуков не заставят императора Франца ни на йоту отступить от расчётов его кабинета министров. В их жилах – не кровь, а замороженная политика!
Моя снисходительность была глупостью. В Тильзите я мог их раздавить, а я повёл себя великодушно. Мне бы следовало уяснить из истории, что такие деградировавшие династии не заслуживают ни веры, ни верности! А теперь Англия накачивает в них деньги.
Итак, вы хотите войну? Что ж, вы её получите. Под Лютценом я уничтожил пруссаков, под Бауценом разбил русских. Вы хотите, чтобы наступил ваш черёд. Прекрасно. Увидимся в Вене. Люди неисправимы. Трижды я восстанавливал императора Франца на троне и обещал ему мир до конца моих дней, даже женился на его дочери. Тогда я говорил себе, что совершаю глупость, но я её сделал и сегодня в этом раскаиваюсь.
Министр говорит о мире в Европе, который возможен, только если французский император согласится в известной мере ограничить свою власть: вернёт Варшаву, Иллирию – Габсбургу, ганзейские города освободит и расширит границы Пруссии».
– Значит, вы хотите, чтобы я сам себя обесчестил? Я скорее умру, чем уступлю хотя бы пядь своей земли. Ваши урождённые короли могут двадцать раз терпеть поражение и всё же вновь возвращаться в свои резиденции. Я – сын военного счастья, для меня это невозможно! Моя власть держится, лишь пока я силён, то есть внушаю страх. Я всё потерял из-за этих русских морозов, кроме чести. И теперь у меня новая армия, не угодно ли поглядеть, я устрою ради вас смотр!
(Когда министр утверждает, что французская армия хочет мира.)
– Не армия – мои генералы хотят мира! У меня не осталось настоящих боевых генералов; московские морозы их деморализовали; самые храбрые плакали там, как дети. Две недели назад я ещё пошёл бы на заключение мира, но теперь, после двух последних побед, уже не могу.
– Европа и вы, сир, – возражает министр, – никогда не придут к взаимопониманию. Ваши мирные договоры всегда оказывались лишь перемириями, а неудачи только с новой силой толкают вас к войне. Теперь с вами будет воевать вся Европа.
– Вы хотите расправиться со мной, вступив со всеми в союз? Сколько же вас всего, господа союзники? Четыре, пять, шесть, двадцать? Тем лучше!
Затем они битый час спорили о численности обеих армий, причём оба заявляли, что точно знают, сколько у противника войск.
– У меня есть список вашей армии, – говорит император. – К вам в боевые порядки засланы три тучи шпионов, так что нам всё о вас известно, вплоть до количества барабанщиков. Но я знаю лучше любого другого надёжность разведки. Мои расчёты основаны на математике: в конце концов, никто не может иметь больше, чем может.
Но когда Меттерних заговаривает о молодых солдатах императорской армии и спрашивает, что тот будет делать, если и эти безусые юнцы сгинут на войне, император впадает в бешенство и кричит:
– Вы не солдат! Вы не знаете, что происходит в душе солдата! Я вырос на поле боя. Такой человек, как я, плюнет на миллионы жизней. Франции не на что жаловаться. Чтобы уберечь французов от потерь, я жертвовал немцами и поляками. В России я потерял 300 тысяч человек, но из них лишь каждый десятый был французом.
Прощаясь с министром, Наполеон уже спокоен. Придерживая дверь, спрашивает:
– Надеюсь, мы ещё увидимся?
– Так точно, Ваше Высочество, только я уже не надеюсь выполнить свою миссию.
Император смотрит на него, похлопывая по плечу:
– Знаете, что произойдёт? Вы не станете воевать со мной.
После трёхдневных переговоров Меттерних собирается уехать, но император боится разрыва, приглашает его ещё раз и принимает утром в парке:
– Вы делаете вид, что обижены?
Потом они десять минут договариваются о продолжении перемирия и переговорах в Праге[10].
В соответствии с этой договорённостью 30 (18) июня в Дрездене Меттерних подписал с министром иностранных дел герцогом Бассано договор, по которому австрийский император предлагал своё посредничество «для заключения всеобщего мира на континенте», а французский император это посредничество принимал. Оговаривалось, что полномочные представители Франции, России и Пруссии соберутся в Праге 5 июля. Четвёртая статья договора была посвящена вопросу о продлении перемирия ввиду недостатка времени до 20 июля, когда, согласно Плейсвицкому договору, перемирие должно быть закончено. Его Величество император Франции обязуется не прекращать перемирия вплоть до 10 августа, а Его Высочество император Австрии обязуется заставить принять эти условия Россию и Пруссию.
Узнав о подписании этого договора, император Австрии направил Наполеону письмо, в котором не мог скрыть своего ликования от поступка зятя: «Ваше Величество не сможет найти посредника более преданного интересам мира и более внимательного к интересам Франции, чем я».
Итак, Наполеон практически принял все условия Меттерниха и был готов к переговорам. Меттерних пребывал в ослеплении и не хотел замечать того, что всем казалось очевидным: Наполеон не будет подписывать какого бы то ни было мирного договора, заняв очень жёсткую позицию по основным вопросам будущего устройства Европы. Он согласился на переговоры, чтобы не прослыть правителем, желающим и далее разорять народ кровопролитными войнами.
Второй не менее важной причиной было желание потянуть время, необходимое для набора новой армии. Поэтому в инструкции, данной герцогу Бассано, Наполеон писал: «Нужно выиграть время. Чтобы выиграть время, не настраивая против себя Австрию, нужно придерживаться того же тона, что и в течение последних шести месяцев: мы на всё согласны, если Австрия станет нашей союзницей».
Царь считал, что Наполеон никогда не согласится на мирные условия, выработанные союзниками, и переговоры на руку противнику. К.В. Нессельроде, министр иностранных дел России, с некоторым злорадством писал царю: «Объяснения, в которые вступил император Наполеон с графом Меттернихом, не оставляют никакого сомнения в невозможности добиться мира на самых умеренных условиях. Несмотря на это, Австрия желает продлить перемирие до 10 августа, но исключительно из военных соображений, а не из расчёта на заключение мира. Французские войска на юге Германии и в Италии настолько усилились, что Вена оказалась под угрозой. Таким образом, император Франц становится первой жертвой своей системы и своих проволочек, так как император Наполеон ныне уже считает себя в состоянии войны с Австрией».
Александр I с недоверием относился к любым внешнеполитическим инициативам Австрии, убедившись на собственном опыте, что за обилием слов у Меттерниха далеко не всегда следует дело. А если следует, то совершенно не то, о котором была договорённость. Нараставшая нервозность царя иллюстрируется его общением с дипломатом при ставке союзников графом Штадионом. Так, 5 июня Александр заверял Штадио-на, что не собирается вести никаких сепаратных переговоров с Наполеоном, но через месяц, 7 июля, пригрозил начать такие переговоры, если Австрия продолжит свою внешнеполитическую линию. Штадион с трудом успокоил царя, оправдывая все проволочки стремлением получше подготовить войска, но Александр уже не верил ему и отвечал, что всякий день отсрочки даёт французам время усилить свои войска против Австрии.
Но Меттерних не уступал с избранной позиции касательно продления перемирия и убедил в этом Нессельроде, а статс-секретарь изо всех сил пытался донести взгляды австрийского коллеги до царя. Александр, немного успокоенный, всё же остался при своём мнении в отношении срока продления перемирия. И Штадион доносил Меттерниху: «Когда я спросил его о перемирии, мне показалось, что он не видит в нём никакой выгоды для себя и своих войск». Тем не менее напору Меттерниха уступил. В итоге по Неймарскому договору перемирие было продлено до 10 августа.
Надежды на мирные переговоры, которые наметили противники в Праге, у Наполеона не было: Меттерниху он не верил и говорил жене:
– Мир будет заключён, если Австрия не захочет ловить рыбу в мутной воде. Императора сбивает с правильного пути Меттерних, который подкуплен российским золотом; этот человек полагает, что политика строится на лжи. Если мне хотят навязать позорные мирные условия, я продолжу войну. Австрия заплатит за всё.
Император Франции хорошо подготовился к продолжению военных действий, так как на мирный договор, который не ущемлял бы интересы его страны, не рассчитывал. Соответственно, были инструктированы А. Коленкур и А. Нарбонн, направленные на мирный конгресс в Праге. Вместо 21 июля они прибыли туда 28-го. Затем до 6 августа обсуждался вопрос о вручении верительных грамот. До некоторых мирных инициатив дело так и не дошло. Конгресс закончился ничем. И в ночь с 10-го на 11 августа на всём пространстве от Праги до главной квартиры союзных армий запылали костры, извещавшие о конце мирных переговоров.

