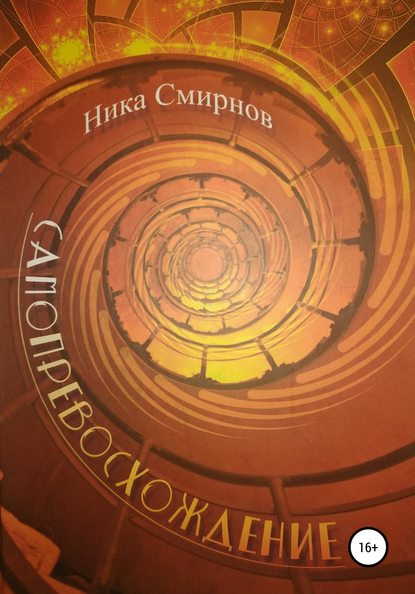 Полная версия
Полная версияСамопревосхождение
Василий «неглупым глазом» посмотрел на меня, потёрся мордой о руки и ноги Ванечки и лишь после этого приступил к трапезе. Я же привычно отметил, что шерсть кота стала гладкой и ещё более густой. Она красиво блестела на солнце, а пушистый, рыжий, с белыми полосами хвост, с чуть поднятым кончиком, свободно раскинулся по зелёной траве, слегка двигаясь в такт одному ему известному ритму.
Ваня незаметно исчез и неслышно снова появился возле меня. Он давно и успешно дополнял себя качествами, которые заимствовал у своих друзей-животных.
—
Что же будет делать твой Вася, когда ты уедешь?
—
Он будет думать обо мне, а я – о нём, – ответил Ванечка. – Но я вернусь, – крикнул он уже убегая, – обязательно верну-у-у-сь!
*
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Новогодние каникулы
Words move, music moves
Only in time,
But that which is only living Can only die…
«Слова движутся, звуки текут во времени, Но то, что только живёт, может лишь умереть…»
Т. С. Элиот
Так что – «не беспокойся напрасно об этом суетном мире, – раз бывшее прошло, а небывшее не явилось, – радуйся сейчас»…
Омар Хайям
С Марком мы встретились снова лишь в канун Нового года,
когда он, проездом в родную Белоруссию, заехал в Питер уже совершенно свободным гражданином, дабы лично поблагодарить Захарию за участие к своей судьбе. На этот раз маме удалось уговорить старинного друга нашей большой семьи остановиться у нас, а не в гостинице, чему мы все – и Ася, и дети, которые вот-вот должны были приехать на зимние каникулы, – естественно, только радовались.
Когда в дом вошёл Марк, – я бы сказал, если бы это было возможно, – что он стал ещё выше, ещё сильнее и радостнее, чем тогда, когда спрыгивал с трапа вертолёта. Маме он поцеловал руку, перед Захарией почтительно склонил голову, мне – весело и добродушно кивнул, потом привычным жестом отбросил назад прямые, светлые волосы, раскрыл свой громадный, знакомый нам по Швейцарии, рюкзак и стал доставать подарки. Маме достался изысканный набор «цветочной терапии Баха», включающий настои из 38 цветков различных растений; Захарии – кованый, ручной работы канделябр на пять свечей; мне – две стопки из чернёного серебра на небольшом, тоже серебряном подносе.
—
Остальные именные подношения, как и положено, – под ёлку! – скомандовал Марк, широко улыбаясь, и потащил празднично упакованные коробки и пакеты в гостиную, где уже стояла лесная красавица.
Смотреть на него было и вправду приятно, особенно когда он вот так улыбался, откидывал назад свои светлые волосы и чуть прищуривал в улыбке серые глаза, тоже очень светлые, так что сразу было видно, что брови его на полтора-два тона темнее волос, цвета кофе с молоком или, может быть, молочного шоколада, а длинные густые ресницы, пожалуй, ещё темнее.
Всё-таки мы были смущены изобилием и щедростью даров, «принесённых как в Золотую Орду», – заметила мама, или «посыпавшихся, как из рога изобилия», – добавил Захария, – поэтому, наверное, и немногословны. В ответ на витиеватую благодарственную речь Марка, обращённую к Захарию, тот лишь скромно ответил:
—
Я очень рад.
Мама приложила руки к груди, глубоко вздохнула, видимо, не желая сразу раскрывать все тайны необычного подарка, однако в её глазах, как всегда, засверкали насмешливые искорки:
—
Спасибо… Я потом, как-нибудь, одна…
—
Ну, хоть ты ничего не говори, – тихо произнёс Марк, повернувшись ко мне перед тем, как скрыться за дверью.
Мама пошла помогать ему прятать «дары», предварительно, по своей милой привычке, озвучив часть скрытого внутреннего монолога:
—
Ну да, порядочность – это не значит устоять перед возможностью присвоить себе чужую собственность – бумажник или, там, золотую карту, – а способность постоять за идею, не предать её за тридцать серебренников, что уже само по себе предполагает множество разнообразных качеств, даже некое возвышенное равновесие противоположностей…
Мама ушла, но Захария успел не просто её услышать, но и ответить, а также ещё уточнить и продолжить свою и её мысль:
—
Например, позволить себе выйти из круга вероятного развития событий, увидеть невозможное, сделать его возможным, – разве не это есть истинное назначение таланта? Сделать мир таким, каким он мог бы и должен быть! Хотя бы на какие-то мгновения почуствовать пределы своих возможностей, не стыдясь самого себя. Да, это жизнь…
Я вздохнул: что можно было ответить художнику? – Он прав. Взяв приложение к подарочному набору, я стал бегло знакомиться с методом доктора Эдварда Баха. Оказывается, сам метод был открыт довольно давно, в 30-х годах прошлого века, и основан на «идее энергии цветов». С помощью этой энергии, – сообщалось далее, – человек восстанавливает контакт с собственными душевными силами, достигает гармонии тела и души, «заключая тем самым мудрое соглашение с жизнью». Я не смог удержаться и прочитал Зархарию следующий абзац, зная, что он должен ему понравиться:
—
«Господь посадил прекрасные цветы…, они протягивают руку помощи человеку в тот тёмный час, когда он забывает о своей божественной природе и позволяет страху и боли затуманить себе зрение, нарушить душевный покой».
Как я и ожидал, Захария заинтересовался, взял у меня буклет и полистав его, сказал:
—
Это есть хорошо. – Потом помолчал и добавил: – Не пора ли нам предложить свои услуги хозяйке дома?
Мы вошли в нашу уютную кухню-столовую, где уже расположились за большим круглым столом, покрытым свежеотглаженной клетчатой скатертью, мама с Марком и с видимым удовольствием чаёвничали.
—
Присоединяйтесь! – Мама лукаво скосила глаза в сторону, на мою книгу, которая лежала рядом с Марком.
Марк быстро обернулся ко мне:
—
Я выбрал несколько фраз и понял, что главный герой у тебя – идея развития сознания в сторону «плюс», а телесно обозначенная на втором, третьем и прочих планах интрига – лишь фон, который придаёт… скажем так, некоторый дополнительный объём рассказу. Я прав? – Конечно. Иначе мне самому было бы не интересно.
—
Так же, как и мне. Книгу возьму, если не возражаешь, а автограф просить не буду.
—
А ты догадлив, – усмехнулся я в ответ, – автографы я никому не даю.
Он засмеялся по-детски простодушно:
—
Но каково посвящение! «Людям, не перестающим мечтать, надеяться и любить…» Так можно и отпугнуть большую часть человечества.
—
Кому бы говорить о бесстрашии и рисках неоромантиков? – заметил улыбаясь одними глазами Захария, а мама тихо сказала:
—
Весь мир стал какой-то сплошной антиутопией… Но ведь невыносимо же проповедовать людям только безысходность их существования и быть так уверенным в своём праве на зло.
Марк лишь взглянул на неё, мгновенно восстановил все пропущенные логические связи, – которые обычно могли уловить лишь очень близкие люди, хорошо знакомые с этой своеобразной манерой мамы беседовать «сама с собой», – и, чрезвычайно довольный полученным результатом, воскликнул:
—
Так ведь и я, примерно, о том же!
Захария охотно включился в эту игру-угадывание, желая подчеркнуть в то же время важную и для себя мысль:
—
Нравственное обновление, вообще-то, весьма тонкая настройка. Оно всегда единично и не может быть массово организовано, ибо происходит в невидимых миру «тайниках индивидуальной совести».
—
Кто это сказал? – тотчас откликнулся «быстроумный» Марк, сразу почувствовав скрытую цитату.
—
Попробуйте угадать.
Марк думал одну секунду:
—
Это… великий старец, напоминающий к концу жизни… ветхозаветную трагическую фигуру. Разочаровавшийся в своём собственном учении. Точнее, в его сторонниках и толкователях. Так?
Захария только развёл руками:
—
Рискуя подпитать чью-то гордыню, всё-таки скажу: с вами невозможно выиграть. Великий старец, как вы изволили заметить, действительно так и написал в своём дневнике: «Я не толстовец». Хотя, – Захария как-то очень по-доброму обвёл нас взглядом своих больших карих глаз, – именно в наши дни начал возрождаться интерес к Толстому как мыслителю, с его мучительными поисками смыслов…
Захария не стал заканчивать фразу, а Марк только усмехнулся. Наряду с простодушной весёлостью ему была свойственна и некоторая доля самоуверенной дерзости, – причём, тем и другим он явно гордился. Поэтому, наверное, ничуть не смущаясь, он быстро ответил на чистом латинском языке:
—
«Homo sum, humani nihil a me alienum puto»*.(«Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».)
Должен заметить, у Марка (как и у некоторых других людей) недостатки были продолжением его достоинств. Иногда они даже переплетались друг с другом. Разница заключалась лишь в характере этих свойств. Так, например, его честолюбие, азарт, сильная воля к достижению поставленных целей реализовались – всегда и без исключений! – только на фоне чрезвычайно развитых инстинктов «сохранения чувства собственного достоинства» и «чувства свободы» (порой, даже вопреки инстинкту самосохранения, стоящему у большинства людей на первом месте). И всё это прекрасно сочеталось с независимостью суждений, вплоть до равнодушия, а то и пренебрежения к расхожим, общепринятым мнениям.
Зато всё живое, вечнотекущее, повторяющее или изменяющее себя, неожиданное, порой абсурдное, что встречалось на его пути, – неизменно вызывало у него жгучую, я бы даже добавил – чувственную заинтересованность. Это могла быть известная мысль или её непривычный поворот; непредсказуемый, ничем до тех пор не обьяснимый поступок; оригинальная точка зрения на повседневное событие, предмет, обычай или способ поведения; даже такая мелочь, как, например, удивившая его почему-то реакция человека, подающего руку, или животного, протягивающего лапу, – неважно. Когда он наблюдал, оценивал что-либо или касался кого-то своими чуткими, сильными пальцами опытного исследователя, казалось, он проникает в самую глубину другого существа или явления, сливается с ним, передавая свою энергию, получая в ответ желаемый отклик, – и они уже вместе, как добровольные партнёры, начинают творить новую реальность.
У Марка было некое особое «жизненное излишество» (если можно так выразиться), но оно-то и пленяло, вероятно, всех тех, кто хоть что-то понимал и ценил в человеке творческом, сулящее пусть и не гарантированное, но вознаграждение, – в виде открытия себя, иных возможностей существования, иногда даже перемены судьбы, или просто знакомства с интересным человеком. Думаю, он был идеальным учёным-экспериментатором, ибо изучал, анализировал, фантазировал, строил гипотезы все 24 часа в сутки, даже во сне, от того, наверное, за него и боролись известные меценаты от науки. Ему же, как он сам говорил, ничего было не нужно, кроме возможности заниматься своими исследованиями. Правда, однако, заключалась в том, что для этого ему нужен был весь мир.
Ванечка приехал и сразу побежал в детскую. Там были аккуратно расставлены все его игрушки, и он бросился их обнимать и тискать, разговаривая одновременно со мной и с ними:
—
Илья приедет позже, ему очень нужно доделать какой-то прибор… Его наставник тоже остался… Слушай, Кролик, – обратился он к белой, пушистой, мягкой игрушке, – почему у тебя висит одно ухо? Ты его поранил? Давай я тебе его полечу. У Васи в Швейцарии тоже было потрёпано ухо, и я его очень скоро вылечил. Представляешь?.. Наверное, он сейчас скучает… Он ведь настоящий.
—
А что такое «настоящий»? – спросил Кролик Ванечкиным голосом, и к нему присоединился Мишка. Ваня задумался, что-то вспоминая:
—
Это, наверное, когда тебя долго-долго любят, по-настоящему любят, а не так, чтобы поиграть или ещё… Тогда ты и сам становишься настоящим.
—
Но ведь если «любят», то могут и «разлюбить»? Вот как у взрослых бывает, – сказал грустно Кролик, и Мишка снова закивал, соглашаясь. – А это больно, когда..? Ну, ты понимаешь, о чём я.
—
Если по правде, то да, больно, – ответил Ванечка, – но ты не бойся, Кролик, и ты, Мишка, и ты, Лошадка, и ты, мой маленький Тигрёнок, – воскликнул Ваня взволнованно. – Если вы уже стали настоящими, пусть не сразу, пусть через «долго», вы уже не сможете быть другими, даже если у тебя, например, оборвано ухо, или… пуговица с жилетки…
Ваня посмотрел на Мишку и опустил голову.
—
У меня пуговица не на жилетке, а в глазу, – тихо ответил Мишка, который всегда говорил правду.
—
Ну и пусть в глазу! Мы тебе с Кроликом и глаза вылечим!
Да, Кролик?
—
Конечно, вылечим! Я даже знаю, где у Кати лежат все «инструменты»: и ножницы, и нитки, и иголки, и пуговицы…
И Кролик добавил шёпотом, в котором теперь отчётливо были слышны слёзы:
—
Ведь если ты уже настоящий, ты не можешь быть никогда не настоящим? Настоящий – это навсегда! Правда, папа?
Я крепко прижал к себе Ванечку вместе с Кроликом, Мишкой, Лошадкой и Тигрёнком, сразу почувствовав, как рубашка становится мокрой от его слез.
—
Правда, истинная правда… Не сомневайся… Это – навсегда.
Ваня поднял голову, и я увидел его тёмные, быстро высохшие, очень серьёзные глаза с ещё мокрыми ресницами, пытливо всматривающиеся в меня.
—
Ты сам сочинил эту историю? – спросил я, смущённо отводя взгляд.
—
И сам, и мама читала. – Потом сразу добавил:
—
А почему мама теперь часто плачет?
Ваня сказал то, что я сам должен был сказать себе, и то, что не хотел говорить. Теперь он ждал правдивого ответа, и я постарался дать его, как сумел:
—
Иногда после этого становится легче. Вот как сейчас, с Кроликом. Ты согласен?
Он кивнул и заговорил очень быстро:
—
Но я, то есть Кролик, скоро перестал, а мама плачет долго, почти все время. – Он опять внимательно посмотрел на меня. – Сегодня ты проводишь меня к ней или Катя?
—
Сегодня – бабушка Катя. – Я почувствовал, как Ваня вздрогнул, и поспешил добавить. – Но я приду к вам через два дня, и мы все вместе поедем на «Ёлку».
Ваня вырвался от меня и радостно запрыгал:
Я хочу на «На Ёлку», зелёную иголку!
Там подарки и Мороз – Седой ус и Красный нос!
—
И как это называется? – спросил я Ванечку, радуясь его переменчивой радостью.
—
Это называется… – он, как Катя, лукаво улыбнулся, – я умею складывать стихи!
Ваня убежал. Я стал расставлять игрушки по местам, а когда заглянул в большие, стеклянные глаза Кролика, мне даже почудилось, что они блеснули с сочувствием и пониманием.
—
Что, брат Кролик? Знаю, знаю, надо идти к Алине… Никто, кроме меня, не сделает то, что я сам должен сделать.
—
«Делай, что можешь, и будь, что будет», – напомнил мне Кролик. Уши у него уже крепко стояли, видимо, Ваня успел их вылечить.
И тут я вспомнил об одном разговоре Ильи с Ванечкой, который нечаянно услышал этим летом на даче. Как-то в полночь я вышел на веранду. Громадная, круглая, белая Луна низко висела над Землёй, освещая своим таинственно-млечным светом всё вокруг. Мальчики тоже не спали в полнолуние. Они стояли на балконе второго этажа и тихо разговаривали. Илья спрашивал:
—
А ты знаешь, как охотится лягушка?
—
Знаю. Она ждёт. У неё глаза могут вращаться кругом. – Он показал. – Вот так.
—
Как локаторы? На 360 градусов?
—
Ну, да… А когда кто-то попадает в этот её круг, она… делает необходимые движения и… всё.
Я ещё тогда обратил внимание на то, что Ваня старательно избегает жёстких выражений.
—
Ты хочешь сказать, – продолжал Илья, – что это похоже на крылатые ракеты?
—
Это ты хочешь сказать, – засмеялся тихо Ванечка, – а я говорю – она лучше! Стрекоза тоже похожа на вертолёт, но ведь намного лучше, так ведь?
—
Наверное… Живая природа всегда лучше, хотя… – Илья задумался. – Вот я, например, люблю технику, и она для меня тоже живая.
—
И я, и я тоже! – воскликнул Ванечка. – Если кого-то люблю, он для меня живой и …настоящий.
—
А знаешь, что я тебе скажу? – Илья доверчиво, как он умел, улыбнулся. – Любовь делает и тебя самого настоящим. Это похоже… – Он помолчал. – Похоже на то, как цветок отдаёт свой аромат. Он просто его излучает, ничего не требуя взамен. – Илья смущённо потупился и тихо добавил. – Я так думаю…
«Они так думают! А мы? – мысленно, с горечью воскликнул я. —
О-о! Далеко не все… Разве что Он?»
«Я поля влюблённым постелю, пусть поют во сне и наяву…»
—
А дальше? – спросил я самого себя – Дальше совсем, как у мальчиков:
«…Я дышу – и, значит, я люблю, я люблю – и, значит, я живу!»
Покинув детскую, я сразу почувствовал необычную тишину и покой в доме, безлюдном и празднично убранном, наполненном голубовато-серым сумраком угасающего зимнего дня, напоённом смоляным запахом ели, которая сумела (вот умница!) не растерять своей лесной свежести. В гордом одиночестве стояла она в ожидании в большой гостиной, нежно поблескивая золотистым дождём украшений в неровном свете уличных фонарей. Возможно, она и сама знала или догадывалась, что не зря же её так долго и любовно наряжали, что всего лишь через какие-то пять-шесть часов вспыхнут огни всех люстр и многократно отразятся в хрустале бокалов, фарфоре и серебре приборов, в строгом порядке расположенных на белоснежной скатерти, терпеливо ожидающих тех мгновений, когда оживлённые, красивые люди – весело, с надеждой, никогда не покидающей их в эту ночь, станут поднимать бокалы с шампанским, поздравлять друг друга с Новым годом, – и благодарить, и любоваться ею, а, может быть, даже петь:
…
В лесу родилась ёлочка…
…
И много-много радости…
«Сколько же у нас забавных вековых привычек, – подумал я. – Говорят, ничто не повторяется и дважды нельзя войти в одну и ту же реку. Это – в Бытии, а в жизни – ещё как повторяется! Давно доказано, что Земля вращается вокруг Солнца (а не наоборот), а мы всё говорим и повторяем: “Солнце всходит и заходит…”»
В последнее время, – то, что я называю «переменой участи», – мне стало всё больше нравиться уединение. Вот и в этот короткий зимний день уходящего года я бродил по нежданно пустым комнатам, с удовольствием вдыхая тонкие запахи еловых веток и букетов живых цветов, расставленных мамой тут и там, испытывая те самые чувства, которые ожидал и ценил. Я любил их за предверие особых состояний, – вовне и внутри себя, – когда ничто не нарушает покоя и сдержанной, устоявшейся тишины: ни еле слышное тиканье старинных напольных часов; ни лёгкое – от бесшумно влетающего в открытые окна ветра – покачивание тяжёлых штор и развевающихся, невесомых, прозрачных занавесок; ни неприметные движения молчаливо присутствующих здесь рядом животных.
Диана, по первому зову готовая стремительно и грациозно подняться на все четыре лапы, лишь слегка поводила головой вслед моим шагам. Ева, постоянно и откровенно оберегающая маму, ревниво наблюдающая за всеми её передвижениями, когда та была в доме, – сейчас молча страдала на своём диванчике среди многочисленных подушек, остро ощущая даже недолгую разлуку и считая каждую секунду, проведённую в тоске и одиночестве, «без неё». Если Ванечку она воспрнимала, скорее всего, как равное, хотя и удивительное явление Природы, то маму выбирала уже как главного Человека своей жизни. Пережив однажды, после ухода Сонечки, боль и горечь утраты, Ева старалась уйти в древнее состояние отстраненности, отрешённости от окружающего мира, когда теряла из вида дорогое ей существо – я даже склонен думать – в другое измерение пространства. Или «ворожила», неотрывно глядя на небольшой акварельный портрет мамы, висящий здесь же, на свободной стене нашей кухни-столовой, где они обе, мама и Ева, проводили значительную часть своего времени.
Мне же часы тишины и уединения напоминали о желательности подведения «предварительных итогов». Мама с Ваней уехали к Алине; отец и в эти предпраздничные дни работал допоздна; Ася позвонила из своей «родовой» городской квартиры, расположенной на Разъезжей улице недалеко от нас, и сообщила, что придёт только к проводам Старого года; Захария ушёл на вокзал провожать Марка, рвущегося во что бы то ни стало встретить этот Новый год в отчем доме. Остальные гости должны были собраться не раньше девятидесяти часов вечера, так что времени для раздумий, увлекающих меня всегда, а сегодня – особенно, было предостаточно.
Не знаю ничего лучше, чем бестелесный, бессловесный разговор в часы одиночества с кем-то из прошлого, кто тебе дорог. Поэтому, наверное, я и подошёл к гравюре Виктора Вильнера «Петербургская новелла», приобретённой мамой на одной из его персональных выставок. Я включил бра и стал смотреть на хорошо известное мне изображение избранных эпизодов из классических произведений Пушкина, Гоголя и Достоевского. Привычно глядя на фигуры людей, мужчин и женщин далёкого века, играющих в карты, неподвижно смотрящих из окон старинных домов, бредущих в тоске и печали по булыжной мостовой вдоль Зимней канавки, обуреваемых страстями, не исчезнувшими и поныне, – мне, сочувствующему и сопереживающему им, становилось легче избавляться и от своих собственных иллюзий и заблуждений. Таково было удивляющее меня каждый раз счастливое побуждение искусства к метаморфозам чувств, его особая очищающая сила.
Весьма обнадёживающим было и то, что чем больше я понимал себя, тем лучше начинал понимать окружающих меня людей (и не только людей!). Именно это сочувственное отождествление себя с другими почти всегда порождало новые отношения, которые превосходили любые конфликты, переводили их на иной, гораздо более высокий уровень, туда, где они, эти прежние противоречия и рассогласования, уже не существовали, теряли свои права. При этом либо заметно увеличивалось или уменьшалось расстояние между участниками противостояний, либо даже приходилось с кем-либо расставаться. В любом случае, более глубокое понимание ситуации, искреннее прощение случайных ошибок, отказ от выяснения отношений на «бытовом уровне», приглашение к честному анализу с соблюдением правил медиации и т. д. – относились уже к «благородным металлам» в сфере общения, хотя бы и появлявшимся в результате переплавки «тьмы низких истин». Радовал и сам факт отсутствия соперников у такого рода отношений в цифровой сфере.
Мне же самому в это время часто открывались скрытые доселе смыслы известных, в том числе «бродячих» изречений. Так, например, в давнем «горячем» высказывании Бл.Августина: «Господи! Если бы я увидел себя, я бы увидел Тебя!» – иногда я тоже начинал улавливать «святую надежду». При этом, мне вовсе не мешало знание того, что сам Августин полагал, – в полном соответствии со взглядами своей эпохи, – Землю плоской, а Солнце вращающимся вокруг неё. Или, например, это многократно озвученное разными людьми удивление: «Неужели на самом деле всегда случается так? Когда ты уже больше не хочешь, или не веришь, или отчаиваешься получить что-либо, – только тогда ты и можешь это получить».
С некоторых пор я стал замечать (повторения придавали этому вполне естественный вид), что сомневаюсь даже в проверенных временем теориях, тем более гипотезах или предположениях. И не потому, что во мне возникает дух противоречия, просто было любопытно заново присматриваться, иначе расставлять акценты, соприкасаясь с новой информацией. Опыт приобщения к думам «одиночек» в человеческой истории позволял, порой, укреплять или менять своё отношение к людям и событиям просто «переворачиванием страниц». Подкреплялось и древнее интеллектуальное право составлять собственные суждения, сомневаться, даже отрекаться от них по мере изменения состояния сознания. Так что, например, выражение: «В мои лета не должно сметь свои суждения иметь», – приобретало для меня дополнительный, иронический смысл, а известный тезис о произведениях искусства, обогащающихся теми чувствами, которые они вызывают в последующих поколениях, а, значит, и о старых мастерах, пленяющих нас более, сильнее современных творений, – хотелось не то, чтобы опровергнуть, скорее, дополнить или найти новые доказательства и причины оживления «поблекшего очарования» старины…
Сейчас же меня полностью захватывала одна совершенно неочевидная – для многих людей – идея соединения духа и жизни, где нет разделения Духа и Материи, ибо по сути они представляют собою две стороны одной медали. Во мне даже появилось почти забытое ощущение, что я опять стою на пороге изменений, предчувствую появление неожиданных событий, и уже неважно, если они станут происходить только в моём воображении. А пока все знания, которые стекались ко мне в это время, так или иначе «работали» на главную идею.

