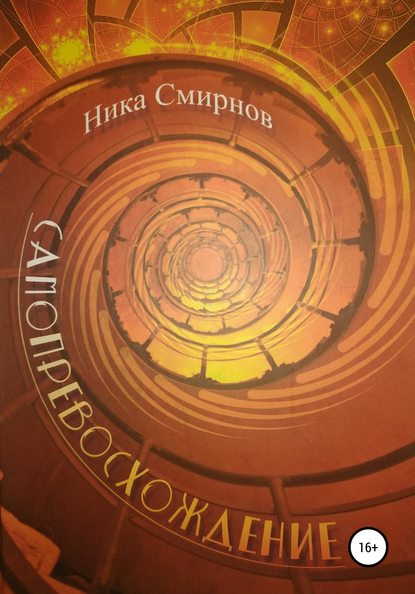 Полная версия
Полная версияСамопревосхождение
– Давай, ешь, всё остынет.
– А ты?
– А я уже…
Мама задумчиво смотрела в свою чашку с чаем, пока я управлялся с кашей, яичницей с ветчиной и сыром, когда же добрался до кофе с мармеладом, она очень мило улыбнулась и протянула небольшой банковский конверт:
– Мы открыли счёт на твоё имя.
– Но…
– Без комментариев! Отец получил часть гонорара за последнюю серию пособий для иностранцев, изучающих русский язык, и русских, изучающих иностранные языки, так что…
Я всё-таки хотел возразить, но мама решительно перебила:
– Даже то, что я знаю о твоих тратах, далеко превосходит доходы!
– Но если «превосходит», значит, я не смогу их тратить, не так ли? – добродушно усмехнулся я.
– Но ты можешь влезть в долги!
Мама панически боялась, ещё с 90-х годов прошлого века, любых займов и кредитов (видимо, были на то причины) и поэтому взмахнула руками почти с мольбой:
– Спроси лучше о чем-нибудь другом!
– Хорошо, – охотно согласился я, вспомнив по ассоциации то, о чём давно хотел узнать. – Скажи, когда точно отец уехал в Израиль?
Мама удивлённо на меня посмотрела, но ответила сразу, не задумываясь:
– Через одиннадцать лет после твоего рождения, то есть в 1994 году.
– А почему он уехал? И… к кому?
Внешне мама выглядела совершенно спокойной, но её выдавали руки, нервно теребящие скатерть.
– Он уехал работать. Здесь тогда… филологические услуги не были востребованы. – Она глубоко вздохнула. – В стране такое творилось, лучше не вспоминать… – И добавила после паузы. – А «к кому»? Да ни к кому! Ему просто «сделали» документы, он создал совместное предприятие, постоянно ездил из Тель-Авива в Москву и обратно, помогал нам… и всё! Остальное ты знаешь.
– Значит ли это, что ты к нему тоже постоянно ездила в Москву? – Да, – просто ответила мама.
Я продолжал расспрашивать, хотя видел, что ей неприятен этот разговор. – А почему нельзя было сделать наоборот? Жить здесь и ездить в Тель-Авив и обратно?
Мама отвернулась:
– Значит, было нельзя…
– Тогда почему сейчас стало можно?
Она развернулась и снова насмешливо посмотрела на меня:
– А сейчас он понял, что хочет жить в России, как и большинство людей, родившихся в какой-либо стране и, в силу обстоятельств, оказавшихся вдали от родных пенатов. Тебя устраивает такой ответ?
– Ну, – недоверчиво протянул я, – сколь угодно есть и других примеров.
– Я же говорю – «большинство». А может быть, и меньшинство. Да какая разница! – Мама явно начинала сердиться. – Неважно! Англичане, прожившие почти всю жизнь в Африке или в Индии, не стали менее патриотичны, как известно, а испанцы, завоевавшие Южную Америку, не превратились в индейцев. С русскими же за границей вообще особая статья!
Мама замолчала, напряжённо сжав губы и опустив глаза. Потом стала старательно разглаживать несуществующие складки на скатерти. Я подошёл к ней и обнял за плечи:
– Успокойся! Теперь ведь всё хорошо.
– Отойди! – Она освободилась из моих рук. – Успокаивай свою Диану, смотри, она совсем извелась от любви и разлуки. Кстати, пойди, погуляй с ней, что ли…
Мама уже начала привычно подтрунивать над собой и над нами, поэтому я с лёгким сердцем позвал Диану и пошёл одеваться, однако не удержался и спросил по дороге:
– А как же насчёт кросскультуры, о которой ты так вдохновенно вещала своим студентам, что Николай Романов, например, до сих пор не может забыть?
– В самом деле? – усмехнулась мама, и я задержал шаг:
– Хочешь, процитирую на память?
– Попробуй, – не слишком заинтересованно ответила мама.
– Изволь. «Ныне кросскультура теснейшим образом связывается с искусством выживания человечества, ибо в мире разлетающихся культур именно эта новая перспектива развития, возникающая за пределами сложившихся культур, способна взорвать, освободить от символических зависимостей и предрассудков как сообщества, так и отдельных людей, предоставив им истинно планетарное, иначе говоря, космическое ощущение свободы».
– Приемлемо, – удовлетворённо хмыкнула мама, – только ты забыл добавить самое важное: то, что первичное «культурное тело» обязательно сохраняется, ни в коей мере не отменяется, ни при каких условиях! Понятно? – Она выдохнула с облегчением. – Да идите уже, сколько можно дразнить Диану поводком? – и мама сама открыла нам дверь.
Мы с Дианой шли вдоль Фонтанки, а я всё не мог остановиться и продолжал сам с собою начатый разговор. Сейчас уже я привык, хотя прежде всегда отмечал, что такие внутренние диалоги были похожи на погоню за мыслью, ловко ускользающей неизвестно куда, потому и требующей охотничьего терпения, чтобы дождаться – и то не всегда! – её появления вновь. А думал я о «взрывном стиле» нового времени, нередко так и именуемом – эксплозив (т. е. взрыв, у нас есть даже более удачное уличное слово – «запредел»), который отражает неотвратимый приход «инаковости» во всём: от взрывоопасного расцвета инфо- и техносферы, в том числе, и как «живого существа» (уже и термин появился – «витализм») – до немыслимой ранее оголенности, уязвимости, незащищённости самого человека, с его привнесёнными из прошлых эпох тревогами, разочарованиями, тоской и агрессией, а также вновь обретёнными и доведёнными до сверхкритической точки – ужасами, страхами, склонностями к немыслимым, казалось бы, формам насилия в современном мире, увы, слишком часто называемом апокалиптическим.
Всё это вместе взятое так просто, само собой, тем более по старым лекалам – не преодолевается, даже с помощью неисчерпаемого потенциала свежей силы, каковой несомненно обладает культура в совокупности с кросскультурой. «Что ж, – вздохнул я вслед за мамой, – и эту проблему тоже надо решать, даже если так мы ещё никогда не жили, подобную цивилизацию не осваивали, а следовательно действовать в изменившихся обстоятельствах нужно, скорее всего, «не по правилам», более точно – по другим правилам, ещё точнее – с включением мощной гуманитарной составляющей. Кто же это сказал: «Следующий век будет либо веком гуманитарным, либо никаким»? Впрочем, не суть важно, главное – сказал.
«Если за один только день, – продолжал размышлять я, – ныне случается столько технологических и цивилизационных прорывов, на которые ранее уходили тысячелетия, – не удивительно, что стираются, лучше сказать трансформируются почти все старые представления о мире и о себе, следовательно, на их месте должно возникнуть – не может не возникать! – обновлённое сознание и пространство свободы, оставляя нам по-прежнему право выбора своего Пути: самосозидания или самоуничтожения; самостановления или самовырождения; самостояния или самоподчинения…»
В это время мы с Дианой подошли к театру Георгия Александровича Товстоногова. Я ненадолго остановился у афиши, Диана, горделиво подняв голову, застыла рядом. Спектакль «История лошади», для которого Софья Алексеевна в своё время специально заказывала у мастерицы плетёные из толстой пряжи костюмы, был всё ещё в репертуаре, наряду с новыми постановками. Мимо проходили известные всему миру актёры, очевидно, спешащие на утреннюю репетицию. Они любили свой театр, считали, что даже «его объёмы являются истинно театральными». Я поклонился, и «достояние нашего города», Алиса Бруновна, бросив короткий взгляд в сторону Дианы, тоже слегка наклонила голову мне в ответ.
Ещё в поезде, возвращаясь из командировки домой, я начал рассматривать свои записки, касающиеся событий, произошедших после августа, когда я закончил первую книгу («Самопревосхождение»), отдал её в издательство («Петрополис») и уехал вместе с Захарией в «школу» – к Асе и мальчиками, к новым знакомым и не менее волнующим воображение незнакомцам. Сейчас, разложив разноцветные листки и блокноты на рабочем столе перед тем, как начать набирать текст, я не удивился, скорее, позабавился, глядя на вкось и вкривь записанные слова, которые, тесня друг друга, пробивались к уже оформленным фразам, заставляя их расширяться, или, напротив, съёживаться, а то и вовсе исчезать под напором новых пришельцев. Волю моей фантазии давали не просто словосочетания и их перекличка, но даже знаки препинания – все эти скобки, кавычки, двоеточия, тире… – они о многом говорили. А вопросительные и восклицательные знаки, или всевозможные стрелочки, виньетки причудливой конфигурации для вставных эпитетов и целых предложений? Они, порой, так переплетались между собой, что почти невозможно было что-либо разобрать, зато безумно интересно было их распутывать, или заново сочинять, или даже угадывать неожиданно возникающий текст.
В том, как удавалось всему этому неорганизованному изобилию, в конце концов проложить свой путь и придать внятный смысл свободному потоку мыслей, заключалась для меня тайна, однако само по себе погружение в неё, независимо от результата, становилось увлекательным приключением. Да и на какой единый и окончательный ответ можно было вообще рассчитывать, если неизвестно откуда и как появляются сами мысли и слова, их выражающие? Ещё минуту назад ты их не знал и не ведал, – и вот, пожалуйста, они есть, а некоторое время спустя (скажем, через ту же минуту, день или месяц) ты уже не можешь их вспомнить и повторить, так что если бы они не были записаны хотя бы таким вот варварским способом – со стрелками, скобками, зачеркиваниями и вставками – то вполне возможно, что и вовсе бы пропали, или изменились до неузнаваемости, или превратились в нечто совсем иное, подчас куда более интересное, нежели первоначальный замысел. Разумеется, речь идёт о мыслях, а не об информации (тем более, бытовой).
Нет, я вовсе не печалюсь по этому поводу и не хочу сказать, что это всегда плохо, – некоторым словам, действительно, было бы лучше исчезнуть навсегда и не засорять пространство. Message о другом, о том, что, возможно, человек и не создаёт сам слова и мысли самостоятельно, один, но лишь улавливает их каким-то непонятным способом из некоего Всемирного хранилища (а потом посылает обратно?), причём именно те из них, на которые способен в это мгновение настроиться…
Ежели это хотя бы в какой-то степени верно, то отсюда следуют, между прочим, далеко идущие последствия. Например, такие: достаточно распространено и даже как-то доказано в нашей культуре мнение, что с определённого возраста (приблизительно, если память мне не изменяет, с 33-35 лет, – возможно, раньше) человек сам отвечает за своё лицо. В таком случае ещё более справедливо полагать, что он, по крайней мере, с этого же возраста должен отвечать и за свои мысли, не говоря уж о поступках (в юридическом смысле отвечать за поступки приходится гораздо раньше, – мы же говорим о духовнонравственной стороне дела). Впрочем, и лицо, и мысли, и дела, действительно, связаны между собой, и это не мои домыслы или случайные догадки, а свидетельства наблюдательных классиков литературы, а также результаты немалого числа научных исследований. Не последнюю роль здесь играет и личный опыт. Фактически всё, что мы имеем в себе и вокруг, – это и есть то, чему мы смогли научиться, а, значит и то, что мы лишь в состоянии воспринять. «Ты скажешь, эта жизнь – одно мгновенье… Не забывай: она – твоё творенье».
Уверен, мне ещё не раз придётся размышлять о чем-либо подобном, ибо такова жизнь в её бесконечных проявлениях и отражениях. Сейчас же для меня гораздо удивительнее было другое. Зачем я делаю всё это? Ищу те самые главные слова и предложения, стараюсь расставить их в некоем вразумительном порядке? Тщательно отбираю даже знаки препинания, когда точно знаю, что читать текст, тем более «думать над ним», будет, даст Бог, тысяча человек? Зачем, наперекор массовому вкусу, намеренно возрождаю длинные периоды и прихотливые словосочетания? Чтобы наиболее точно выразить нарождающуюся мысль? Или чтобы «не распалась связь времён»? Или потому, что если есть «около тысячи человек, действительно, может быть, не больше, то ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идее»? Не исключено и то, что эта «забава ума и сердца» сама по себе цель и награда, и других поощрений не требует…
Пока у меня нет однозначного ответа. Вместе с тем, я точно знаю, что такое, почти сумеречное состояние сознания, несмотря ни на что, является и плодотворным, и приближающим к решению вопросов, которые никуда не отступают в ожидании ответа, и к тем людям, с «лица необщим выражением», которые эти вопросы тоже ставят и стараются, по мере сил, разрешить.
Я понимал, не понимая всей сложности и простоты этих ускользающих, не оформленных до конца мыслей, и всё же, всё же… ждал ответа. Однако его по-прежнему не было…
Резко встав из-за стола и отодвинув крутящийся стул, я быстро отошёл к эркеру. Внутри его застеклённой ниши, за прозрачными занавесками, в больших кадках росли высокие, с крупными, овальной формы листьями разной окраски, экзотические растения – диффенбахии, – «как в зимнем саду», – говорила с гордостью мама, – и стал смотреть в окна, стараясь различить, себе в наказание, оттенки серого на сером.
Бледно-серые облака сливались с каплями влажного воздуха и остатками снежного дождя; тяжёлые, темно-серые квадратные арки каменного моста с цепями были не в состоянии оттенить, оживить почти чёрные воды Фонтанки, и лишь разноцветные зонтики над головами медленно бредущих людей, уже окутанных сумеречным светом, всё ещё не позволяли уснуть воображению, заставляя работать мысль даже на холостом ходу. И вдруг мелькнул, на мгновение выглянув из-за облаков, запоздалый луч, и я не успел удивиться, как стали появляться первые строки.
«Разве может быть достаточной в самом деле (необходимой – да, судя по массовости) нарастающая лавина развлечений, лёгких до невесомости и бездумных до полного отсутствия смысла, – всех этих шоу, игр, пародий, шутовства, искусственных состязаний и прочих радостей абсолютно доступного, затягивающего, ненасытного виртуального мира? – Руки легко летали над клавиатурой. – Неужели толпа нехитрых пересмешников любого возраста, происхождения, образования (необразованности?), заполонившая подмостки и экраны, – это всё, что нам нужно?
Нет, нет и нет! Им я не судья и камень не брошу. Просто хочу, наверное, открыто выразить свою сопричастность, если угодно, сочувствие (пусть и в ущерб популярности) тем, кто думает и думает иначе; часто в одиночестве; желает быть услышанным, хотя бы иногда; мечтает «перестукиваться» с такими же, как они сами; и не порожняком слов, но думами о чем-то несуетном, вечном… И чтото мне подсказывает, что они тоже есть, эти «другие», более того, они тоже зачем-то нужны человечеству.
…Им говорят, что осталось лишь зло, борющееся с ещё большим злом, что безумие и глупость людская – необоримы, – а они отвечают: пусть так, но мы всё равно будем пробовать, раз за разом, их гасить и помнить, что добро есть, а зло должно же на ком-то закончиться…
…Им внушают – кругом беззаконие, ложь, несправедливость, а истина непостижима, но они говорят: пусть так, но мы будем всётаки стремиться постигнуть и правду, и истину, ибо не хлебом единым жив человек…
…Им непрерывно стремятся доказать интеллектуально-выверенным расчётом, со ссылками на практический опыт, что жизнь абсурдна и бессмысленна, обманна и мучительна: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот всё – суета и томление духа», «потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь…» (Кн. Экклезиаста, I, 14, 18). А они всё равно лелеют надежду, что помимо хаоса жизни на Земле сохраняется, каким-то неведомым для нас образом, и вечный порядок – по законам Небес, – и что интуитивное прозрение и следование этим Высшим законам – с верою в душе и чистотою помыслов – позволяет человеку достичь гармонии и с собой, и с миром уже при жизни, ибо то, что мы ценим, по той же цене и получаем…
И ведь по большей части, – подумал я, откинувшись на спинку стула и закинув руки за голову, – эти обитатели «расселин культуры» и «каменоломен духа» – одиноки и анонимны, их можно уловить лишь по сильному энергетическому полю, нечувствительному для непосвящённых. Только кто же будет это делать, кроме них самих и таких же, как они сами? Лишь Тот, наверное, о ком смятенно и благодарно писал поэт:
«…слишком многим руки для объятия Ты раскинешь по концам креста…»
Теперь я уже отчётливо осознавал, как нечто внутри меня внятно требовало чрезвычайно осторожного соприкосновения с текстом, угадывания уровня, который в каждом конкретном случае ему «дозволяется», – то ли в силу моего собственного несовершенства, то ли нарастающего одновременно с этим ощущения новых возможностей. А, может быть, это уже работала та самая, проявляющаяся всё более отчётливо, идея, согласно которой не горстка рассеянных в человеческой биомассе просветлённых, но весь человеческий род, как целое, реально претерпевает в настоящее время свою скоростную эволюцию, и что поэтому невозможно «выйти из круга», достигнуть общезначимого результата кому-либо в одиночку, когда весь мир, а с ним и каждый человек в отдельности, концентрирует силы, часто не ведая, что творит, проходит посвящение и самонасыщение, чтобы стать способным осуществить – и коллективно, и индивидуально – Великий переход к следующему витку спирали развития. А сумерки, особенно густые, бывают, как известно, перед рассветом.
И я вдруг догадался – всё это в совокупности означает следующее: если я достигаю чего бы то ни было, – этого достигают (могут достигнуть!) все, и никак иначе! К сожалению, столь же вероятна и обратная перспектива.
Здесь уместно сделать ещё одно небольшое замечание в пользу позитивного сценария развития человеческого сообщества.
Материалистические, технократические последние наши века вызвали такое погружение и растворение Духа в Материи, что уже не остаётся более ничего иного, – кроме как трансформироваться вместе с Материей обратно в мир Духа. Такие «качели» в ту или иную сторону уже случались, по слухам, во Вселенной. Так почему бы и нам не сделать нечто подобное, только со знаком плюс, разумеется? После того, как Дух попробовал потеряться в Материи, и даже известно, что из этого получилось, почему бы не рискнуть сделать прямо противоположенное? Да простит меня гипотетический читатель, но, право же, мысль эта если и игрива, то только по форме, но никак не по вере и содержанию. Ты просто приводишь всё в порядок, уничтожая покров лжи поверх истины, – и оказывается, с удовольствием повторял я, что достаточно всего лишь внутреннего «переключения сознания», чтобы изменилось всё, оставаясь тем же…
Я решил сделать перерыв, и в ту же секунду на мониторе загорелась зелёная пиктограмма – это Ася вышла на связь в Сети. Я набрал пароль, появилось приглашение к видеочату. Когда в окошке возникло лицо Аси, я даже не заметил, как встал, хотя отчётливо помнил, что следует оставаться в поле видимости камеры.
– Садитесь, сударь, – с улыбкой сказала Ася, – это ваше последнее размышление о созависимости людей – просто супер! Оно очень близко к сокровенному пониманию «Великого Перехода». Цифровой мир – это лишь оболочка или даже зависимость, однако всегда были, есть и будут «жрецы», «волхвы» или кто-то там ещё, остающиеся открытыми и свободными, оттого и владеющими – передаваемым всем, но только ими воспринимаемым – истинным Знанием. Тебе, похоже, удалось вступить на этот «узкий путь» ученичества, сотрудничая с собственным сознанием, и уловить смысловое ядро эволюционной игры в её критической точке, а именно: необходимость одухотворения материи. В таком состоянии и небольшое усилие мысли способно привести к замечательным результатам.
Я молчал, не зная, что ответить, и тогда Ася насмешливо заметила:
– Но учти, на этой же идее, с её другого края, уже возникли соблазны, связанные с новомодными технологиями «всеобщего интеллекта», «роевого разума», «единого сознания человечества» и т. д. – посредством встроенных в мозг чипов и подключения каждой индивидуальной мозговой системы в единое пространство общей компьютерной Сети Планеты. При этом считается, что мы изучаем интернет, а он изучает нас. Представляешь, как интересно? Она лукаво смотрела на меня.
– Но ведь есть и просматриваемые уже сейчас опасности этой затеи Новой Вавилонской Башни, – осторожно начал говорить я. – Всемирный компьютер может не только воссоздать наш индивидуальный профиль, но и использовать его вовсе не по тому назначению, что мы сами задумывали, не говоря об утрате свободы воли, разрушении личности, увеличении цифровых преступлений и прочее.
– Более того, – подхватила Ася, почему-то по-прежнему улыбаясь, – он может вообще взорвать наш собственный мозг. Что мешает? Метаразум создан, ящик Пандоры открыт, никто и ничто не в состоянии остановить хорошо известный по мифологии процесс. И уже неважно, скольким новым возможностям этот Всемирный интеллектпаук мог бы помочь воплотиться: спасению человечества от болезней и голода; предупреждению катастроф и расцвету экологического единства с миром Природы; межпланетным путешествиям и встречам с инопланетянами на высшем уровне. Что толку в этих обычных перечислениях в пользу обобществлённого единого сознания, если исчезает сам человек? К счастью, уже есть и те, кто задумывается о жертвоприношениях, приносимых на алтарь киберфантазиям. Да ладно, – миролюбиво отмахнулась Ася, почти реально протянув мне руку через экран, – страхом делу не поможешь. Вспомни, были и есть сверхорганизованные сообщества муравьёв, пчёл, термитов, наконец. Говорят, когда-то они тоже были разумными, самоэволюционирующими цивилизациями и добились невиданных успехов. И что с ними стало? К счастью, насекомых напрямую трудно связать с каким-либо этапом формирования человека, однако следует признать, что в построении коллективного организма и отдельных его частей они обнаруживают и более богатое прошлое, и более совершенные, по сравнению с человеком, формы. Справедливости ради хочу добавить: они иногда вызывают не только наше удивление или… даже восхищение поразительной полнотой и отточенностью своей организации, но и замешательство, ужас, безотчётное отвращение перед абсолютной невозможностью для отдельного индивида освободиться от круговорота жизни муравейника или улья, тем более выйти из-под контроля отталкивающе-свирепой тирании термитника.
Ася отвернулась и замолчала, потом глухо добавила:
– Если тебе любопытно, посмотри подробные описания жизни насекомых. Их много, а мне говорить об их, так называемых, цивилизациях, принёсших в жертву всё – от зрения и пола до крыльев и разума каждой особи, – неприятно.
Ася упрямо встряхнула головой, а на лице её вдруг неожиданно появилась очаровательная гримаска:
– А наши собственные прогнозы гораздо лучше и утешительнее! Мы знаем, есть другие Пути – последовательного осуществления духовно-душевно-органических воплощений любого масштаба, направленных на поиск закономерностей более высокого порядка, включающих и природу, и космос, и био-, и нанотехнологии. Каждое из направлений вносит ту или иную инновацию в общую Копилку Всеобщего Разума, ни в коей мере ничего не уничтожая в существующей Вселенной.
И она весело рассмеялась.
– Если же верить не только древним, но и современным мудрецам, – Ася даже покачала пальчиком, – то человечество и вовсе никогда не заблуждалось, а всё, что свершалось, с необходимостью входило во всеобъемлющее мировое строительство, которое, вполне возможно, и приведёт, в конце концов, к тому, что будет достроена разрушенная некогда Вавилонская Башня как воплощение мифа об идеальной жизни на земле.
И мы, представь себе, давно и дружно шагаем по этим дорогам. Вот так!
Ася сильно раскрутила себя несколько раз, превратившись на какое-то время в одно сплошное движение, потом остановилась, нисколько не нарушив дыхания, и сказала, насмешливо блеснув глазами:
– А давай поговорим о чем-нибудь простом и понятном? Например, о твоих стенаниях по поводу несовершенств мира, всеобщего оглупления и падения нравов.
Я лишь улыбнулся в ответ:
– Ты что-то путаешь, так я не говорил.
– Не говорил, – легко согласилась Ася, – говорили твои собеседники, вернее, собеседницы, а ты их слушал и молчал, потому что жалел.
Несколько секунд я молча, удивлённо на неё смотрел – так быстро она сменила тему.
– А хорошо это или плохо, – проговорила она задумчиво, не стирая с лица улыбки, – оставлять людей в неведении?
– Я так понимаю, теперь мой ход, – сказал я, уже включаясь в параллельно текущее новое расследование. Ася кивнула, а я продолжил:
– Мы не можем изменить сознание других людей, не желающих его менять, – значит, надо научиться жить вместе, стараясь, по возможности, не растворяться в их… «поле».

