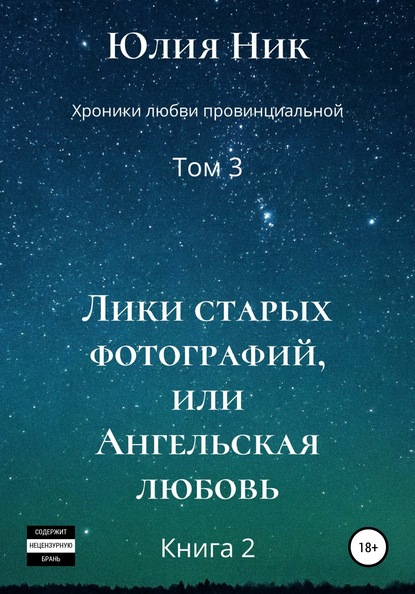 Полная версия
Полная версияХроники любви провинциальной. Том 3. Лики старых фотографий, или Ангельская любовь. Книга 2
С этого времени началась смертельная борьба двух разведок и контрразведок СССР и САСШ – Северо-Американские Соединённые Штаты – как тогда назывались США. Часто эта борьба принимала абсолютно бесцеремонные, грубые, запугивающие формы. Никто особенно не придерживался каких-то дипломатических правил. Была принята на вооружение крайняя степень враждебности во взаимных отношениях разведок и даже дипломатов.
И если быть совсем беспристрастным и точным, у САСШ было много преимуществ, и прежде всего – выросшая на дрожжах Второй Мировой Войны огромная военная мощь их страны и мощное производство, дающее много возможностей для осуществления самых дерзких планов разведки.
Во-первых, у них была создана огромная сеть разведчиков Атомного спецназа из бывших этнических русских, которые свободно владели языком, прекрасно знали обычаи и натуру русского народа, его поведенческие особенности. Около 500-600 таких человек по самым скромным подсчётам было задействовано тогда разведкой. А подготовкой этих людей занимался тоже эмигрант из русских, Пашковский Борис Фёдорович, сын священника и сам получивший образование священника, талантливый, образованный человек, смертельно ненавидевший Советскую Россию, уничтожившую все его жизненные планы, разрушившую его прежнюю, вполне обеспеченную жизнь, и заодно поглотившую его мать, сербку по национальности. Она исчезла в глубинах Гулага, как жена и мать священника. Такими были те времена.
Все его подопечные были настроены примерно так же, как и он – совершенно беспощадно к любому, кто встанет у них на пути к их цели уничтожения ненавистной им России. Достаточно сказать, что только один, максимум двое, из десяти агентов, соглашались на двойную игру, если их ловили советские службы контрразведки. Обычно их всех расстреливали.
Во-вторых, очень многоопределяющим фактором успешности для САСШ было наличие у них к тому времени мощных, скоростных самолётов, летающих на высоте до 22 000м. Наши МиГ-15 в то время летали не выше 10 – 12км и были менее скоростными. И наши РЛС были весьма несовершенны в улавливании радиолокационных целей. Но это умело маскировалось. На видимые цели станции просто не подавали сигнала, и это сбивало с толку «англосаксонских супостатов». Честно говоря, если бы вояки США знали тогда об истинном положении дел, они могли бы нас уничтожить. Но к счастью не знали, а потом уже боялись, ибо наша бомба была сразу мощнее их бомб в двадцать раз!!!
Но задача перед амерами была поставлена. И амеровские самолёты, базировавшиеся повсюду: в Гренландии, Норвегии, Турции – и так далее, вблизи наших границ, достаточно нагло, и откровенно насмехаясь над нашими бессильными перехватчиками ПВО, пролетали – и даже большими группами пролетали – с севера на юг до Ирана и Турции, и обратно, через всю нашу страну. Наши локаторы их не видели. Наши лётчики зато иногда их видели, даже пытались брать «на таран», но это практически не приносило никакого эффекта. С этих самолётов разведчиков вся территория нашей страны фотографировалась самой совершенной тогда оптикой. На каждом самолёте-разведчике было установлено по 11 фотокамер, дающих отчётливые снимки поверхности на расстоянии до 100км. Они летали по ночам, освещая поверхности и объекты авиационными осветительными бомбами, и по изменяющемуся размеру отбрасываемой объектами тени спецы легко определяли размеры строений на земле. Долгое время высокое авиационное начальство нашей страны даже считало, что сведения о таких самолётах – просто выдумка. Ну не могут летать самолёты на такой высоте! Но когда 1 мая 1960 года усилиями и умением ракетчиков 57 ракетно-зенитной батареи, охранявшей наш Город – Челябинск-40, был сбит самолёт Пауэрса, все сомнения рассеялись в один миг. К счастью, И.В. Сталин ещё 30.07.1950 года поднял вопрос о создании сверхзвукового мощного истребителя-перехватчика с оснащением ракетами «воздух-воздух».
Трудно нам было всё сразу охватить. И мощностей не хватало. Но! Такой самолёт был создан! Это – легендарный МиГ-19. Он был принят на вооружение даже не дожидаясь завершения Государственных испытаний лётных и боевых качеств самолёта. Очень горячей была обстановка в небе в те годы холодной войны двух мировых систем. Уже 1.07.1960 года был сбит самолёт-разведчик RB-47«Стартоджет», по обыкновению нагло вторгшийся в пределы Каниного Мыса на севере. Сбит двумя очередями из пушки самолёта нашим лётчиком Василием Поляковым, который второпях, чтобы успеть догнать нарушителя, забрался в кабину МиГ-19 даже без высотного костюма! Наглость США поутихла, но не прекратилась. С 1950 по 1970 годы было зафиксировано 20 000(!!!) попыток нарушить нашу границу. В результате такого «взаимодействия» около 164 американских лётчиков было сбито.
А «ребята» Пашковского, выдрессированные, обученные переносить любые условия и нагрузки, регулярно забрасывались в нашу страну с единственной целью – брать пробы воды, почвы в интересующих разведку США местах. Забрасывались иногда очень далеко от места забора и долго добирались, дабы замести возможные следы. Многих таких вылавливали. Но не всех, разумеется. В пробах, которые так интересовали службы США, специалисты по «изотопным хвостам» – радионуклидным следам атомного производства, обязательно так или иначе выпадающим из атмосферы на землю и просачивающимся в воду, почву, растения – можно с большой точностью определить, какой именно радиохимический элемент получают на данной территории.
Почему можно с уверенностью сказать, что далеко не всех вылавливали? А потому, что каждый год происходили неоднократные слушания в Объединённом Комитете по атомной энергетике Конгресса США на протяжении всех 50-х годов о состоянии атомной промышленности в нашей стране. И каждый год альбом с подробным описанием наших секретных объектов атомного комплекса СССР обновлялся, вплоть до новых схем расположения дверей зданий.
Но двери-то дверьми, а судя по тем данным, которыми располагала разведка США, можно уверенно сказать, что ни одного завербованного агента из высшего или даже среднего звена руководства атомными проектами, у них не было. И все сведения, которыми они располагали, были отрывочными, разрозненными, не дающими целостной картины. Именно это и позволило нам накопить силы и необходимую массу оружейного плутония.
А ребята Пашковского неустанно засылались, сбрасывались на парашютах в северные, труднодоступные и малонаселённые районы промышленного Урала, где было сосредоточено много военных и атомных объектов. Они сбрасывались в темноте ночи или сумерках предрассветной хмари, когда все нормальные люди крепко спят. Они спускались под прикрытием всё тех же осветительных авиационных бомб, ярко светивших ниже парашютистов, ослеплявших наблюдателей, если таковые имелись, и освещавших местность для приземления агентов. А потом агенты, выполнившие задание, в условленное время подбирались на борт самолёта с помощью тихоходных самолётов R2-V7 «Нептун», которые могли лететь на высоте 30-50 м над землёй со скоростью не более 220км\час, со специальной системой подхвата человека с земли , которая называлась «небесный крюк». А дальность возможного полёта такого самолёта было около 7000км. Сброшенную и спрятанную амуницию парашютистов поисковые отряды наших чекистов находили в безлюдных уральских районах неоднократно.
Кстати, известный писатель-аналитик А.Ракитин предложил очень реальную версию гибели группы Дятлова на отрогах горы Отортен, связанную именно с такими вот «светящимися шарами» – авиационными светящимися бомбами – которые местные манси частенько видели в той глухой, и очень удобной поэтому для высадки агентов, местности. Эти бомбы, устроенные по принципу бенгальского огня, закончив гореть, при ударе о землю рассыпались в пыль. Очень реальная версия. И многое становится очевидным и логичным. И диверсанты Пашковского – убийцы по предназначению и призванию ,легко могли справиться и с более многочисленной группой студентов – и шары, и исчезновение некоторых вещей туристов – всё вписывается в такую версию.
В 1950 году авиационная разведка США 1000 раз нарушала границы СССР. В 1959 году – уже более 3000раз. И, разумеется, незамерзающее зимой озеро Карачай с парящей водой, не могло не попасть в поле зрения разведчиков. Они даже подсчитали, исходя из размеров этого озера мощность всех трёх реакторов по W=286МВт каждый. И подсчитали, что примерно в каждом из реакторов нарабатывается 0,86г Ри-239 на 1МВт\сутки. То есть в каждом реакторе 246г Ри-239\сутки.
Не надо недооценивать ум врагов своих.
Но мы успели стать сильными.
И тем не менее, только в 1965 году с появлением на вооружении СССР самолёта дальней радиолокации – ТУ-126 прекратились разбойничьи залёты и даже наглые провокационные имитации массированного нападения «Стартоджетов» на территорию нашей страны, тренирующие экипажи на исполнение одного из многочисленных планов уничтожения СССР, которые создавались «союзничками» уже в 1943году.
И с 50-х годов накануне каждого праздника все силы ПВО и расположенные в местах особо охраняемых объектов военные силы и все военизированные подразделения приводились в условия повышенной боевой готовности. И недаром. Сегодня уже есть опубликованные фотографии, которые были сделаны такими самолётами-разведчиками во время праздников и парадов в крупных городах Союза – Киев, Ленинград, Москва, Мурманск и так далее. ПВО тех городов их не заметили. Знал генерал Ткаченко об этих эпизодах, запрещая всякие парады и шествия праздничные в Городе
В самые ненастные осенние вечера «каминная кампания», как их всех вместе называла тётя Таня, часто всей толпой ходили в театр «Наш Дом», смотрели все спектакли-премьеры и потом, под впечатлением игры актёров и пьесы, пешком возвращались домой, обсуждая жизнь или игру в жизнь на сцене.
Их собственная жизнь в Городе, стиснутая ощетинившимся со всех сторон грозными артиллерийскими орудиями периметром, была по-своему очень устроена, уютна и насыщенна, и наполнена таким высоким всеми осознаваемом смыслом, что Стаси, на которую периметр из колючей проволоки первоначально сильно «давил», как и на всех, кому внезапно пришлось оказаться в этом Городе, давно привыкла к его существованию и даже находила своеобразную прелесть в таком искусственном защищённом мирке. Ей нравилось это ощущение абсолютной сиюминутной безопасности и доверия ко всем окружающим в любое время дня и ночи.
Она поняла суть этого чувства. Человек с «большой земли» – так называли жители этого Города всю остальную территорию страны за периметром – как бы пропадал, исчезал, выпадал надолго, если не навсегда, из обычного мира и, благодаря чему-то или кому-то, попав сюда, начинал чувствовать себя человеком другого мира. В этом мире все, рано или поздно, пропитывались объединяющим духом исключительности и самодостаточности. Это происходило совершенно независимо от человека.
Разумеется, это был народный подвиг. Тот запал безумного, теоретически невозможного, но фактически свершённого на памяти ещё сегодня живущих люде, героизма создания атомного щита Мира, как бы жил в воздухе, заставлял всех подтягиваться и соответствовать тем надеждам и требованиям, которые налагались местом работы и окружающими. Здесь недопустимо было разочаровать надеющихся на тебя! Это, конечно, прежде всего касалось тех, кто был непосредственно задействован в атомном проекте. В этом проекте не было места ни самодурству, ни расхлябанности, ни чванству. Здесь создался совершенно уникальный автаркический характер Города и людей, работавших в нём.
Благодаря основателям и первым строителям этого необыкновенного Города, благодаря гению Курчатова, организаторскому гению Берия, техническому таланту Далежаля, Завенягина, Царевского, Славского, Музрукова и всех других, идущих за ними чередой, понимающими, что главный капитал воплощения этой безумной по своим масштабам и срокам идеи спасения Мира – люди, которые сюда приехали, которых привезли, направили, завербовали – самые квалифицированные и ценные кадры, что удалось только тогда найти. И они самозабвенно и бесстрашно, с полной отдачей своих сил и знаний будут трудиться, превосходя самих себя в дерзновении, когда почувствуют совершенно особую атмосферу вокруг себя, атмосферу доверия к ним, надежды на них и благодарности. И ещё каждый ответственный человек должен иметь качественную среду «для отвлечения мозгов» – как говаривал Борода. Чем квалифицированнее и дороже человеческий капитал, тем более полнокровной, разнообразной и духовно богатой среды вокруг себя он требует, как редкий цветок требует особого ухода, и тогда он щедро цветёт и плодоносит.
Городу повезло и с теми, кто формировал его культурную среду, пользуясь особыми правами и полномочиями, повезло и с теми, кто не жалея денег, финансировал самые претенциозные проекты архитекторов и руководителей будущего комбината. Для страны это была дорогая цена по тем временам, но эта цена была мизерной по сравнению с тем, что стояло на кону в общемировом масштабе. Это понимал Сталин, это понимали Берия, Курчатов и вся команда, немногим более ста человек, которая обязана была выполнить небывалую в мире задачу создания атомного щита мира за три года.
И поэтому первый в Городе театр появился на базе деревянного клуба имени Ленинского комсомола раньше, чем первый атомный реактор.
О бомбе здесь думали в первую очередь, а о людях, которые должны были её сделать, подумали заранее. Это было самым важным решением, определяющим успех безумного по своим масштабам, научной дерзости и срокам создания проекта мирового значения, – создании этого Города и следом за ним ещё нескольких таких же Городов по всей стране чуть позже.
Наступившая зима принесла уже знакомые забавы: лыжные прогулки, вечерний каток с музыкой и каруселью катающихся по кругу, горку и фонарики над прогулочными дорожками в парке.
Иногда на катке Лео замечал и того «валетного», как окрестила его Стаси, капитана. Но после категорического отказа Лео этому валету в танце с его женой, капитан стремился не попадаться к нему на глаза, хотя постоянно и наблюдал за этой «сладкой парочкой», как он в свою очередь окрестил Стаси и Лео. Как хищник терпеливо ходит вокруг намеченной добычи, так и капитан изучал интересующий его «объект».
Маневры капитана на катке Лео заметил. По старой и вышколенной привычке Лео сразу полюбопытствовал тогда, откуда этот капитан так внезапно оказался в их окружении. Но ничего особенного не обнаружил. Тот имел пропуск в Город по служебным делам строительной войсковой части. Работал, пока эту службу по факту не отменили, капитаном интендантской службы. А потом он жил в самой части и по-прежнему занимался, но уже в другой по названию должности, «замнач по хозчасти», теми же вопросами снабжения и обеспечения. Останавливался, если задерживался на несколько дней в Городе, исключительно в служебной гостинице.
Но Лео никак это не связывал со странными взглядами сослуживцев и приятелей, полагая, что этот «валет» вплотную занят Ветой.
А в один прекрасный день связал-таки, встретившись с одной и той же ситуацией несколько раз кряду.
– И почему я сразу-то на это внимания не обратил? – Лео от неожиданности даже вздрогнул и с трудом дождался перерыва. В этот день, как это часто случалось, они договорились со Стаси пообедать в столовой. С самого порога обеденного зала он опять увидел рядом со Стаси, за одним столиком с ней, этого капитана. Тот изредка появлялся в городе. И уже несколько раз Лео замечал его, так или иначе, рядом с женой.
В принципе ничего странного в этом не было. Женщина, которую любят, всегда так сияет счастьем и так излучает его наивно и восторженно во все стороны света, что было бы совершенно удивительным делом, если бы кто-то праздный не соблазнился соприкоснуться ближе с таким чудом, сияющим, как начищенный золотой, явившийся вдруг ищущему взору в серой пыли обыденности или даже обрыдлости его собственной, изо дня в день повторяющейся, скучной жизни.
Капитану Скопичеву, случайно оказавшемуся рядом с этим крохотным, по сравнению с его родным Свердловском, скучным красивым городком, казалось, что все тут ходили, как тупо устремлённые и увлечённые своими делами муравьи, обречённые тащить каждый свою травинку по одной и той же дорожке.
Внешне так оно и было. Но в сути своей, тут каждый «муравей» не тупо, а осознанно и с чувством абсолютной великой необходимости тащил «свою травинку».
Единственное, что капитана Скопичева тут радовало – это высокий оклад и очень хорошее снабжение, сопоставимое со столичным. Да ещё некоторые служебные возможности, радующие его своей простотой. Кроме того, он тут, в периметре, нашел небольшое общество, в котором чувствовал себя достаточно уютно.
Неизвестно, зачем Земля иногда рождает таких людей. Может быть для того же, для чего и щуку? Чтобы крась не дремал?
С самых ранних лет в сознании будущего капитана маленького Вити Скопичева строилась своеобразная личная жёсткая система иерархии интересов и принципов. Неизвестно, каким образом это происходит в человеке. Какие случаи можно было бы считать зёрнами такого именно строения души? Может быть скоромные и тихие родители, довольствующиеся всем, что у них было? Небольшая тесная квартирка, скромные деньги, одежда и развлечения? Но факт оставался фактом – Витя стеснялся своих ничем не примечательных родителей. И заранее видел себя в совсем другом обществе и не на последних ролях. Как этого достичь, он не знал. Но кое-что уразумел сразу, интуитивно.
Всё на свете в сознании капитана имело свою цену. Всё абсолютно!
Золотой Телец, видимо, как-то случайно двинул его по лбу своим золотым копытом, и этот оттиск на темечке навсегда стал главным в жизни мальчика по имени Витя Скопичев. В школе, а потом и в училище, он абсолютно точно знал, от кого и что он может получить ценного, начиная от старшины, в ведении которого так или иначе была каптёрка, и кончая генералом – начальником училища. Ну, с генералами вообще сложно выстраивать отношения какому-то курсанту, поэтому тут курсант Скопичев и не пытался их наладить, и нечем ему было высовываться. С военными науками дело у него обстояло весьма, и даже более, чем весьма, скромно. Но прошедшие войну генералы были достаточно благодушны и по-отцовски терпеливо пытались из всех курсантов сделать «военную косточку», и не торопились их отчислять.
Из-за установившейся постепенно и кропотливо выстраиваемой дружбы с ефрейтором из каптёрки, на которую Скопичев тратил все деньги, которые имел в своём распоряжении, у него возникли хорошие перспективы совсем в другом направлении. Менее опасном, чем дружба с генералами. Он «просто так» дарил ефрейтору папиросы, иногда незаметно приносил из увольнительной «мерзавчика» в широких брюках-галифе. Кулёк с семечками или горсть карамелек, красивый конверт для письма, и многие другие копеечные приношения размягчили сердце материально-ответственного ефрейтора, а однажды состоявшийся разговор по душам о сиротской судьбе Скопичева, который всеми своими родными позабыт-позаброшен из-за козней отчима, – которого у него, правду сказать, и не бывало никогда, поскольку отец родной был в добром здравии пока что – и совсем растопили ефрейтора под пару раздавленных шкаликов. Сам Скопичев не пил.
Но он давно и прочно усвоил, что копеечные услуги, комплименты и презентики – прекрасные «подчинители» воли одариваемых. Презентики Скопичев щедро приправлял ещё одними безотказно работающими «подчинителями» – словами лести и признания превосходства нужного человечка над своими личными достоинствами Вити Скопичева.
Любой мало-мальски смышлёный манипулятор, несколько раз поговоривший «по душам» с испытуемым, легко нащупывает нужные точки. Скопичев был даже талантливым манипулятором. Хочешь жить – умей вертеться. А он хотел не просто жить, а жить красиво!
И с тех пор у Скопичева была самая новая шапка, самый новый ремень и даже бушлат. А при посещении бани он неизменно получал новый, никем ещё не пошорканый кусок мыла, новое полотенце и крепкое бельё. Особо свою дружбу с каптёркой Скопичев не афишировал, но в любой свободный час, когда мог, активно изучал тайны обращения материальных ценностей и их учёта. Тайн было много. Особенно в учёте.
В те послевоенные годы, когда Скопичев учился, повсеместно происходил возврат в народное хозяйство всего, что некогда было у народа изъято на нужды фронта и теперь стало ненужным. Эти возвраты оценивались тоннами, тысячами штук, вагонами, начиная от белья и кончая тягловой силой, постепенно высвобождаемой от восстановления разрушенной страны. И чего там только не было в этих тысячах тонн, тысячах штук и в тысячах вагонов! И весь этот поток проходил по интендантскому «тракту» учётов и перераспределений.
Возможностей их усовершенствовать среди таких остолопов, которые за семечки и «мерзавчика» готовы вынести со склада, что угодно, а за рупь продать – ещё больше.
С большим удовольствием Скопичев вступил в интендантскую службу, куда другие более амбициозные его товарищи никак не хотели идти. Тем более, что уже ходили разговоры об упразднении её, как таковой. К моменту окончания училища про деятельность службы интендантов в самом низу, по крайней мере, он знал всё. Даже то знал, как в каптерку попадают люди особенные, ловкие, предприимчивые и не отягощённые партийными принципами. Эти должности даже «продавались» теми, кто демобилизовался с этих мест, тем, кто, так или иначе, претендовал на эти места. Не всем, правда, купить это удавалось. На любом рынке, как известно два дурака и один умный. Один продаёт, другой покупает, а третий выгоду извлекает, надрав обоих. Старшину-то редко кому удавалось на хромой козе объехать за «просто так».
Кстати, есть, похоже, один объективный закон, который объясняет, почему человечество ничему не учится на своём опыте. И особо удивляться тут нечему.
Вот, например, Великое Поколение Победителей, которым к моменту нашего рассказа было немного за пятьдесят, спокойно и гордо работали, уверенные, что уж их-то потомкам осталось только с честью и самоотверженно продолжать дело отцов. Чего так не жить-то!? Мир! Мир же!! Люди?!
Но есть в процессе развития общества один маленький поганый такой закон: «как только где-то становится слишком сытно и тепло, там непременно и быстро заводится плесень, либерота и подлота». Этого Победители ещё не знали и не видели. Они очень хотели, чтобы их детям – в общем смысле этого слова – жилось лучше, чем им самим. Это же нормально в общем-то?
Нормально, конечно, если это самое «лучше» добыто трудами самих их детей, а не просто по наследству получено.
Даром полученное наследство никогда особо не ценилось, нигде и никем. Это станет совершенно очевидным в начале третьего тысячелетия в разваливании неучами, добравшимися до управления некогда могущественной во всех отношениях Мировой державы – СССР.
Вообще говоря, после училища, будучи зелёным младшим лейтенантом, Скопичев даже женился.
И сразу о*уел!
Та, которой он сделал честь, взяв её, немного им же попорченную, в жёны, посмела претендовать на самое святое. На его кошелёк. Пыталась вместе планировать их хозяйственные расходы, хотя и хозяйства-то никакого не было. Какое это хозяйство – комната в общаге?! Требовала, чтобы деньги были их общими. А с какой это стати? Ребёнка нет, и она сама работает?
Ну, за ужин он был согласен ещё платить, так как ужинал дома, а в остальном: «Возьми свою куклу и отдай мой горшок!»
Он в мужья не напрашивался. И этот безрадостный брак, даже не успев ничего свершить, бесславно распался к общему озлоблению и поумнению. И тут лейтенант Скопичев понял, что, как и всё в мире, женщины тоже стоят определённую цену. За всё надо платить.
А чтобы платить, надо ещё разобраться, кому тут и за что он захочет платить. Можно было бы и не разбираться, а искать, просто перебирая товар, но достаточно строгие и консервативные в те времена нравы никому не давали возможностей особо разгуляться в своих желаниях, а желания терзали тело лейтенанта по ночам, утрам и вечерам регулярно и беспрестанно.
Впрочем, послевоенные женщины возрастом постарше, оставшиеся без мужей и ещё не потерявшие своей женственности, в некоторой своей части, были вполне доступны и очень недорого. Некоторые же из них за одну только надежду удержать возле себя этого высокого, кареглазого с восточным налётом брюнета двадцати четырёх лет сами платили за вино, вкусные котлеты, свои квартиры, дрова и бельё.
Надежду удержать его, и даже не одну за сезон, старший лейтенант стал подавать женщинам часто и щедро, и, по мере получения опыта, он точно и жёстко уяснил себе, что женщины делятся на три класса:
Во-первых, бл*ди себе на уме, которые стоят дорого и очень дорого, и они тоже умеют считать деньги.



