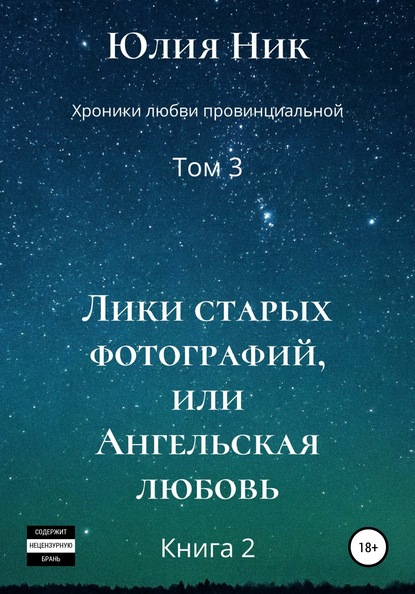 Полная версия
Полная версияХроники любви провинциальной. Том 3. Лики старых фотографий, или Ангельская любовь. Книга 2
Отцу Стаси, очень смущённая всем произошедшим в отделе дамской галантереи, разумеется, не стала ничего демонстрировать. Постаралась всё молча, незаметно и быстро утащить в спальню. А отец, радостный, что они, наконец, пришли, быстро наливал им в их общую тарелку порцию разогретой горячей солянки и, смеясь, рассказывал о приятеле в профилактории, который никому толком не давал выспаться, крича во сне дурным голосом: «Херихора ловите! Херихора! Спиртуйте его, каналью египетскую!» Это было результатом поразившего того на отдыхе чтения книги «Фараон». Поэтому отец и смеялся весь вечер, вспоминая.
Как же, оказывается, они скучали друг по другу! И дом их снова превратился в самый уютный для них дом, а не в камеру ожидания папы с такими непредсказуемыми результатами.
С тех пор иногда по утрам Сергей Дмитриевич прятал за своей газетой довольную ухмылку, видя, как его сынуля с обожанием лицезрит Стаси в прелестном утреннем халатике, смущённо отворачивающуюся от слишком откровенных взглядов мужа, с трудом скрывающего свой пыл в присутствии отца.
Вся долгие годы сдерживаемая потребность мужчин этого дома иметь и обожать женщину, достойную самого высокого пьедестала, осуществилась и размягчила до состояния тёплого воска их души мальчишек, которыми мужчины остаются до самой смерти.
Мальчишки мальчишками, но Лео абсолютно изменился в отношении Стаси. Исчезла вся его неуверенная горячность и некоторая настороженность к непонятным, порой, ему лично движениям души и мыслей жены. Он стал просто слепо доверять им, с интересом ожидая, что же получится в результате её новаций и неуёмной энергии, высоко перехлёстывающей допустимый им у себя самого уровень фонтанирования идей.
Она была неистощима, как маленький ребёнок в интересующем его лесу. Но все её фантазии приводили к тому, что н всё более чувствовал себя оберегателем, защитником, двигателем и устроителем их жизни, прочной крокодильей шкурой, которая становилась все прочнее и красивее. И в их пещере всегда горел ровный жар уважения к уму и цельности натуры друг друга.
Но самым значимым для самого Лео в эти месяцы стало обоюдное притяжение тел. Для мужчин это всегда самое знаковое подтверждение взаимной любви. Таковы уж они – сеятели и землепашцы, возделыватели ночной нивы.
Его длинные сильные пальцы, проникая, иногда будили её среди ночи, и ещё с закрытыми глазами она тянулась навстречу его желанию, молча и сладостно сливаясь с ним на несколько минут, как это научаются делать с полувздоха понимающие и любящие друг друга супруги. После торжества соития она снова быстро и мирно засыпала на его груди. И звук его удовлетворённого мягкого дыхания был для неё лучшей колыбельной в глухой ночи.
Иногда она, проснувшись от привиденного, нежно ловила его сосок, ощущая его набухание, трогала рукой тотчас отзывающийся на её ласку член, будивший мужа, и у неё возникала почти детская самоуверенность в своём праве на несомненную общую радость их упоительной близости, связывающей и укрепляющей их крокодилью крепость.
Их мир в общем и целом гармонизировался, но стычки иногда случались, и довольно резкие. Ну разве можно не выяснять, куда это она собралась сегодня в таком нарядном платье? Праздников вроде нет? Или о том, куда лучше сегодня пойти в кино или в театр? А что делать, если она любит его меньше, чем он её? Она же первая забыла позвонить, что задерживается в клинике, и он, как полный дурак, ждал её возле поликлиники, и в результате прозевал-таки? А что это за девушки были, с которыми он так весело целый час почти смеялся у ступенек магазина, поджидая её, что даже не заметил её? А она, между прочим, уже успела туда давно прийти и накупить всего? Целую авоську!? Вообще поводов поссориться можно найти сколько угодно, если что-то сильно сердит.
Стаси приняла Соломоново решение, чтобы долго не выяснять, очень или не очень сердится вторая половина. Повёрнутый спиной к зрителю, а ярким клювом к стене, фарфоровый аист на секретере в гостиной, немного скосивший в задумчивости один глаз, чётко давал понять, что супруг или супруга просто в бешенстве уже! И тут уж оставалось надеяться на любовь, благоразумие и правильно применять дипломатические приёмы налаживания мира. И обязательно развернуть длинноклювого посланника, давая понять, что виновник к миру «всегда готов!» и просит снисхождения.
Срабатывало.
У Лео был один, но совершенно беспроигрышный дипломатический ход. Он начинал смешить Стаси. Хоть чем. Однажды, извиняясь за устроенный беспорядок с носками, он даже сам начал штопать свой дырявый носок, сопя и выразительно вздыхая, пока совершенно не запутал все нитки в один всклокоченный моток, который пришлось вырезать «с мясом», увеличивая дыру и дружно хохоча с простившей его женой. Опоздав к ужину на два с лишним часа, хотя обещал прийти пораньше, он начал отжиматься бесчисленное множество раз прямо на ходу в коридоре, чтобы она специально запиналась об него. И при каждом отжимании он тупо и монотонно повторял раз за разом: «Я люблю свою Йони. А она мне не может простить, что я просто мужчина, который не понимает, как девочек надо любить. Мне очень плохо. Мне уже совсем плохо. Я скоро сдохну. А прощать будет уже поздно тогда. Ну, забыл я про футбол сказать. Всего два часа. Но я очень хороший и послушный труп буду через пять минут. Аист, ну клюнь ты свою любимую Стаси в её чудненькую попку. Ну откуда я с этого стадиона позвонить-то мог? А матч очень важный был, решающий, можно сказать. Все мужики пошли. Пусть простит, а? Я и холодное всё съем. Зачем это она тут всё разогревает и сердито бегает? Пусть лучше поцелует…». – на такие выдумки Лео тоже был неистощим, пока Стаси не расхохочется и не дёрнет его за волосы, прощая какую-нибудь обидную ей глупость.
Стаси совершенно иначе начинала умилостивлять своего господина. Она точно знала, что если за день состоялось восемь, а лучше больше, тактильных контактов, которые были обоим приятны, то гроза быстро пройдёт. Ну какой мужчина, даже «смертельно» обиженный, сможет долго противостоять нежно воркующему над ухом голосу любимой негодяйки, обидевшей его, но так пленительно делающей сейчас ему хороший массаж воротниковой зоны и кусающей его за ухо? Да пошло оно лесом это её вечернее долгое отсутствие из-за корпоративной, как сейчас говорят, вечеринки у кого-то по поводу какого-то события. Куда лучше обнять её и тут же на стуле окончательно помириться, завоевав её своим фирменным поцелуем. И он, бывало, внезапно задерживался. Она же прощала?
Аист возвращался на место неизменно и быстро, не нанося большого урона никому. Может и правду говорят: «Милые бранятся –только тешатся?»
Глава 10 Каминная кампания
В доме от изменившегося света за окном появилось особенное зимнее чисто-уютное настроение, немного праздничное и торжественное, быстро сменяющееся вечером особым тёмным тихим семейным уютом от тепла батарей, горячего ужина и чая, и недолгих посиделок за приятными домашними делами, чтением и шахматами отца и сына, шутливо и громко празднующих каждую оплошность и промах друг друга.
По субботам отец больше не уходил к «Силычам». Тётя Таня, вооружившись кастрюлями, скалкой и желанием порадовать «мальчиков», как она их всех называла, всю субботу готовила в кухне Воротовых субботний ужин для всей честной кампании. Никто не захотел после летних посиделок около костерка и мангала отказываться от такой чудной привычки – проводить субботний вечер вместе. Это были изумительные вечера, подтверждающие утверждение чудесного сказочного писателя, что самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения.
Разный возраст и разный жизненный опыт придавали необъяснимый аромат вечерам, наполненным особенной радостью обретенного почти домашнего счастья. Почти домашнего, насколько это было возможно. Все мужчины этого узкого кружка, кроме Лео и Сергея Дмитриевича, разумеется, были одинокими. Хотя до появления Стаси в их доме и они, Лео и отец, по сути были одинокими, каждый на свой лад.
Стаси стала огоньком, который привлекал теперь всех сюда. Даже тётю Таню привлекала возможность быть здесь не просто тоже хорошей соседкой, а очень нужной. Нужность, как известно, – великий стимул к сотворению добрых и тёплых дел, и тётя Таня старалась от души всё делать с великим тщанием и любовью.
Василий Петрович, или Вася, как его тут называли все, кроме Стаси, обычно прибегал последним, внося с собой в помещение запах процедурного кабинета, запах хлорки, спирта, марганцовки, стерильных бинтов, валерьяны и ещё бог знает чего, чем он пропитывался насквозь в своём врачебном царстве-государстве.
История Васи была самой обычной. Школа, четыре курса мединститута, война – и быстрое карьерное продвижение: работа санитаром в эвакуационном эшелоне, медбратом, помощником хирурга и всем остальным, что приходилось тогда делать, заодно осваивая практику на деле.
Потом снова институт, чтобы закончить начатое образование. Недолгая работа врачом в клинике. Потом Вася влюбился в пациентку и женился на простой, вроде, девчонке. Но, как выяснилось, совсем не по любви вышла она за него, а из-за вожделенных симпатичной девицей городских квадратных метров. Так и жили потом: Вася с родителями в одной комнате, а она в другой. В той самой, в которой Вася, удивившись в первую же брачную ночь, но замяв для ясности возникшие вопросы, начал, было, строить с ней свою семейную жизнь.
И потом в её законной комнате, постоянно заполненной кем-то из её весёлых и шумных друзей, практически не прекращались праздники и шумные посиделки с застольем и гитарой.
Предложение, или направление, работать в этом Городе – это тогда можно было расценивать как угодно – Вася, а с ним и его родители, восприняли, как освобождение от гнетущего чувства растоптанной и испачканной жизни. Отец Васи тоже пришел с войны целым и невредимым, прошагав в пехоте всю Европу. Он был грамотным слесарем-монтажником, которые тут были, как впрочем и все специалисты своего дела, на вес золота.
Вася же, с учётом его военного опыта, – тут таким отдавали предпочтение среди всех прочих, ибо «проход через войну» был лучшей профессиональной характеристикой врачу-специалисту тогда – принял только что отстроенную клинику в свои руки, а тётя Таня долго работала пекарем в хлебопекарном цехе, который сразу запустили на территории какого-то опустевшего склада в близ лежащем посёлочке, как только привезли первых рабочих. Без хлеба-то – куда?
А потом, когда «Аннушку» уже запустили, отец Васи, обслуживающий смонтированные им и его бригадой производственные трубопроводы и соединения где-то хватанул «пыли». Нарушали они ради скорости технологию. Им казалось, что если не надевая противогаза, просто на вдохе заскочить «туда» на секундочку посмотреть, что надо, – ничего страшного и не случится. Потом выдохнешь – и всё! Случилось. Это же не просто пыль была. Это очень «цеплястая» за организм пыль была. Накопилось и случилось. Такое заболевание даже имело своё название в те годы – плутониевый пневмосклероз. Так и не вылечился Пётр Авдеевич. Упокоился в Берёзовой Роще, вместе со многими другими своими друзьями, оставив жену на попечение сына в большом доме, выделенном Васе, как главврачу больницы и заведующему по совместительству и поликлиникой. Не много врачей изъявляло желание ехать сюда, даже за неплохие по тем временам деньги. К этому времени врачи кое-что о радиации уже знали. Хиросима и Нагасаки, о которых время от времени появлялись публикации в журналах, немного, но кое-чему научили. Жениться второй раз Вася так и не решился. Да и кандидаток тут маловато было. Не Иваново! Тут каждая появлявшаяся женщина мгновенно находила себе поклонника. Не успевал Вася со своей занятостью обгонять более расторопных. Да и не стремился он к женщинам по наблюдениям матери и уклончиво отвечал, что занят он по горло, что на семью просто не остаётся времени. И желание жениться, по понятным причинам, было отбито у него напрочь.
Но иногда мать заставала сына в редкие минуты его отдыха за написанием каких-то записей в тетрадь, которую Вася тут же убирал, засовывая между страницами нечто похожее на фото или открытку. Тщательные поиски матери этой тетради успехами не увенчались. Похоже, что с собой он носил эту тетрадку или на работе хранил, предупреждая болезненный интерес скучающей матери к нему и его личной жизни.
Василий Петрович после общего ужина присаживался где-нибудь в уголочке, охотно смеялся смешным историям обычно про войну или про давние времена строительства Города, рассказанным другими, но сам молчал, своего не рассказывал. Смешного в их эшелоне не случалось. Только обстрелы, стоны раненых, крики умирающих, кровь на телах подвезённых к поезду раненых, или уже убитых, вперемежку с землёй от разрывающихся снарядов. Красные кресты на крышах вагонов были заметными целями для «мессеров». За ними даже специально охотились «бравые орлы вермахта», пока эти кресты не убрали совсем. Пулемёты были слишком слабой защитой, когда эшелон попадал под обстрел. Свои два ордена и медали Василий Петрович запрятал подальше и надевал свою сохранившуюся, благодаря стараниям тёти Тани, военную форму капитана медицинской службы только один раз в год. В День Победы. Дома.
Из Германии Вася привёз матери шёлковый платок и отрез на платье, отцу привёз прочный новый, бисером вышитый кисет для табака и нож перочинный и, конечно, бритву. А себе – конечно, тоже бритву и очень хороший, очень большой и очень дорогой набор медицинских инструментов, на который ухлопал весь свой денежный запас, выделенный на приобретение трофеев.
Кроме Лео и Сергея Дмитриевича такими же опасными бритвами пользовались и их друзья, дядя Митя и Юрий Максимович. Только и у дяди Мити, и у Юрия Максимовича на бритвах было каллиграфической немецкой вязью выгравировано название знаменитой фирмы, производящей бритвы из знаменитой немецкой стали. Хорошие бритвы делали в Германии в местечке Зелинген. Эти бритвы у приятелей были теми единственными военными трофеями, которые они привезли с собой в своих офицерских чемоданчиках.
Некому им было везти другие подарки, возвращаясь на родину.
А в Германии многие победители, получив положенные им наградные премии и деньги по аттестату, не могли выслать домой то, что хотелось бы, чтобы порадовать домашних всякими трофейными диковинками, которые в изобилии продавались на блошиных рынках оголодавшими немецкими жителями, охотно стремившимися выручить деньги на еду у непривычных торговаться русских. И дядя Митя, и Юрий Максимович не раз рассказывали, как высылали от своего имени семьям боевых друзей-товарищей неиспользуемые лично для себя «позволенные трофейные килограммы посылок».
Кстати: русские вообще всегда не очень умели торговаться. Никому не завидовали и ни о чём из барахольного, что и само часто лезло в руки, не жалели тогда. Живыми же остались! Даже менялись «не глядя», просто «на интерес».
Наверное эта простота и нестяжательность и делают нас такими? С загадочной русской душой? Да и чёрта ли в барахле-то этом? Другое дело – малых своих позабавить игрушками, гармошками губными, свистульками. Ну и жене там платье, платок какой, чтобы понимала, что он только о ней и думал, о любушке своей. Ну, бритву острую, или нож хороший себе на память купить – это другое дело. А вообще лучше деньги, конечно же, домой привезти. Кто знает, как там удастся устроиться-то после войны? Разрушено же столько!
И по-разному устраивались вернувшиеся с войны. Чаще всего с нуля начинали восстанавливать свою жизнь Победители. Только разруха и труд в основном их ждали тут нетерпеливо. Да ещё истосковавшиеся жёны и ребятишки. Если выжили.
Но они сумели всем миром за пять лет восстановить потерянное! Сумели! Они же были Победители!!!
Дядя Митя и Греч всегда приносили с собой к столу что-нибудь из закуски, копченую селёдочку, охотничьи колбаски, сушеную воблу, которую неизвестно где доставали и припасали к субботним пивку или водочке. Пили всегда сдержанно и немного. Фронтовые сто граммов обычно. Для снятия недельной усталости и теплого разговора этого вполне хватало.
Дядя Митя не сразу начинал говорить или рассказывать. Обычно сначала он с аппетитом съедал борщ, щи или солянку, которые тётя Таня со Стаси неизменно готовили, потом запивал горячим сладким чаем один-два куска пирога, и только после этого его небесно-голубые глаза становились лучистыми, живо реагировали на всё, и дядя Митя расслаблялся, получив свою порцию водки, вкуснейшей еды, любви и внимания, которые и Стаси, и тётя Таня щедро им всем дарили, подкладывая на тарелку пироги и пирожки, подливая чай в огромный бокал, который как-то облюбовал для себя где-то на полках универмага, а потом и сюда, к пылающему камину, притащил его, дядя Митя.
Когда-то и у него дома был почти такой. Когда-то. Когда ещё не была разрушена его деревня, его дом, когда ещё не была сожжена заживо его жена с маленьким сынишкой, когда ещё был жив его старшенький, ушедший в партизаны. Когда ещё не было войны, которая отняла у него всё и всех, самых любимых.
Война, как исторический факт, закончилась, а дядя Митя со своим полком ещё стоял в Австрии. Оттуда и домой вернулся. Вышел срок его мобилизации.
Его полк направили из Австрии сразу сюда. На строительство Города. Никто не знал, куда везут тех, кому ещё надо было дослужить своё, положенное по закону, в армии.
В своей деревне дядя Митя не нашел ни единой живой души. Даже кошек и собак там не было. Только некоторые печные трубы, обгоревшие, ещё стояли памятниками тем, кого в этой деревне сожгли фашисты вместе с жителями. Сутки он сидел на бугорке, который когда-то был фундаментом его дома, в тени клёна. Клён уцелел частично, немножко подальше от дома стоял.
До ночи на пригорке рядом с ним просидел знакомый мужик из соседней деревушки, заметивший прошагавшего в сторону спалённой «Добровки» солдата. Сосед, прихватил с собой бутылочку самогона и солёных огурцов, пошел вслед за вернувшимся к своему пепелищу солдатом, чтобы до глубокой ночи вместе с вернувшимся поминать погибших А утром, абсолютно поседевший за ночь, Дмитрий Силантьевич Шишкин отправился в районный военкомат и попросился, чтобы и его отправили вместе с его полком к месту назначения. Больше родных у него не осталось. Так он, как и сотни других, оказался на берегах четырёх озёр в глубине Уральской тайги. Всё начало войны дядя Митя строил мосты, собирал понтонные переправы, часто под бешеным огнём с другого берега, бывало, что и пятачок плацдарма для закрепления переправы приходилось оборонять, пока не подтянутся основные части.
За выдержанный характер и абсолютное спокойствие перед лицом любой опасности, которое у него пришло после того, как получил письмо о гибели старшенького в партизанском отряде после освобождения их области – беречь свою жизнь стало не для кого – ему предложили стать командиром роты. Особой роты – штрафной.
Посвящённые знают, как эти роты создавались в 1943, уже наступательном, году повсеместно по приказу Сталина, который в народе называли «Ни шагу назад!»
Несмотря на повышенный военный аттестат и выслугу военных лет, что влияло на многие льготы на гражданке, особо желающих служить командирами в этих подразделениях не было. Сто два человека, из которых все поголовно уже имели «отсидки» за уголовные преступления и рвались на фронт, ибо там, в штрафных ротах сроки отсидки уменьшались многократно, сокращаясь до нескольких месяцев. Если выживешь.
И к концу войны многие уголовные элементы мечтали попасть в эти штрафные роты особенно, чтобы суметь в мутной водице окончания войны пошмонать как следует буржуев, когда и к ним туда, в их европы, докатится волна победоносной войны.
Вся сложность работы с таким контингентом состояла в том, что на многих из этих отпетых головорезов не действовало ничего, кроме страха быть тут же пристреленным за нарушение воинской дисциплины. Направлялись эти роты в самые горячие точки. Провинившимся тяжелыми преступлениями перед народом или оступившимся давали возможность кровью искупить своё преступление и быстро вернуться в общий строй советских людей. Командирам, разумеется, были даны особые полномочия. Только дело сделать, выполнить боевую задачу этими особыми полномочиями невозможно. Это должны были делать люди, к которым многие командиры спиной боялись поворачиваться. Старший лейтенант Шишкин ничего не боялся. Он просто выполнял с подчиненными ему людьми задачу с минимальными потерям, ибо каждую жизнь на вес золота ценил, и с максимальной эффективностью, ибо дело своё знал, и люди ему верили.
Дядя Митя скупо рассказывал о своей службе. За него всё рассказывали, кто эти рассказы понимал, три Ордена Красного Знамени, два Ордена Отечественной Войны первой и второй степени и несчётное количество боевых медалей.
Не принято было тогда рассказывать о штрафных ротах и штрафных батальонах.
А тут на этом пятачке уральской земли совершенно случайно, – или совсем не случайно?– встретились двое, которые изнутри знали всё об этих, покрытых тайной неразглашения, военных боевых подразделениях.
Греч, начальник Лео и Глеба, был тоже оттуда. Но только из офицерского штрафного батальона. Политическим заключенным, каковым оказался к началу войны Греч, путь в штрафные батальоны был, вообще говоря, заказан.
К слову сказать, штрафные батальоны и штрафные роты – это вещи разные. Штрафным батальонам поручались самые сложные, требующие не только мужества, но и военной выучки и специальных профессиональных знаний для успешного выполнения военных операций. В этих батальонах и обстановка, и отношения между «рядовыми» были другими. Сегодня он просто рядовой, а завтра ему возвращали звание подполковника или майора, возвращали награды и ставили в строй командиром, за заслуги в бою. Это были самые дерзкие, умные и бесстрашные подразделения в каждой армии. В батальоны офицерам попасть было труднее, даже если и очень хотел бы. Политическим заключённым, если они имели чин офицера в прошлом, путь в эти штрафные батальоны практически был заказан по, опять же, политическим соображениям. На слуху тогда был предатель – генерал Власов.
В сформированных по одному на каждую армию, штрафных батальонах собирались в основном офицеры за дисциплинарные проступки, уголовные и бытовые преступления, за проявленную в условиях боевых действий трусость и малодушие. И сроки, к которым они были приговорены, тоже сокращались до нескольких месяцев. Десять лет пребывания офицера в тюрьме покрывались шестью месяцами пребывания в штрафном батальоне, или ранением в бою. Если офицер остался жив или был ранен, или выдержал все шесть месяцев наказания штрафбатом, ему возвращались все воинские звания и награды.
Греч писал заявления с просьбой направить его в такой батальон несколько раз, уже отсидев три года в лагере. И что послужило решающим фактором в получении, наконец, разрешения вступить в ряды штрафников из офицерского штрафбата, Греч узнает много лет спустя. Он тоже мало о чём рассказывал, только иногда, вскользь упоминая своих боевых друзей. В конце концов, получив обратно все свои воинские звания и награды, Греч попросил, чтобы его оставили ротным в роте разведки его штрафного батальона. С ним он и дошел до Берлина.
– Слушай, Юра, а как же ты тут-то оказался? – спросил как-то Сергей Дмитриевич друга.
– Как? Да просто. В один день получил письмо от сына и похоронку на него. Уж, казалось, вот она – победа. Мечтали, как встретимся, наконец. И вот…
У меня война не кончилась со взятием Берлина. У меня к этим гадам есть свой личный счёт. За сына. Казалось бы мы, ну в самом пекле мы бывали. И мне – ничего! А он уже был в Будапеште. Снайпер его зацепил. Там много недобитков разных по подвалам и чердакам маскировалось.
Кому как везёт. Моему парню не повезло. Сейчас уже тридцать два было бы.
Был у нас командиром роты пацан один, совсем молоденький лейтенант после училища. Даже усы сначала плохо росли ещё. Пацан! Его вот пули не брали. То автомат как-нибудь вдруг приподнимет, и бац! – в затвор пуля! А он синяком отделался. То бинокль свой опустил в руке на ремешке – бац! и футляра нет, бинокль с разбитым стеклом! Сапог распорот. А нога целая! Везунчиком был, пока на Одере при переправе не ранили его в голову, плацдарм он первым взял с парнем одним, лётчиком. Первыми они туда на его командирской лодочке переправились. Ну тут и наши подтянулись, закрепились. А потом уже прошел слух, что погиб этот ротный, и тот второй, лётчик тоже погиб. К званию Героя их представили – это всех тогда к «Герою» представляли, кто сумел закрепиться на плацдарме на том берегу первым. Весть прошла, что оба они погибли. А через пару дней нашего пацана-штрафбатю без сознания, но живым, в воде подобрали наши. Сам обратно на наш берег случайно по течению прибился на плоту каком-то. Не знаю, как дальше судьба его была. Мы дальше пошли. Только знаю, что наш батальонный в представлении к Герою его фамилию снял. Орденом Красного Знамени заменил. И такое было. Многое от комбата в этих делах зависело. А наш комбат упорок был такой, что пока сам орденок не получит за операцию, которую штрафники сделают, никого к более высокому ордену не представлял, – рассказывая это, Греч зло щурил газа на огонь ожившего в доме камина и надолго замолкал, давя в груди боль и обиду за друзей, которые жизни там не жалели, а им суки всякие заслуженной награды не давали даже посмертно. – Шкура этот комбат был редкостная. Но передовую и калачом не заманишь. Только команды подавал из блиндажа по телефону. Матом крыл, что разберётся ещё, мол, с нами бездельниками. А сам ничерта не понимал ни в действиях моей разведки, ни в наступательной тактике. Совсем ничерта! И как такие в командиры попадали – совершенно непонятно. По блату, что ли? Этот наш «штрафбатя», пацан с усиками, его на передовую не раз звал, приходи, мол, сюда, тут и разберёмся, что к чему и как надо делать. Сразу затыкался, сволочь. Такие сволочи штрафников на минированные поля посылали, шкуры! И даже не скрывали, что просто он так решил, и – всё! А можно же было огнём миномётным проверить, частично уничтожить, потом разминировать! Нет! И никто им не указ. Обидно люди погибали, ни за что. А эти, поди, и сейчас в чести ходят, в героях.

