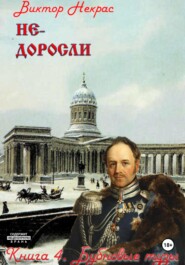скачать книгу бесплатно
Говорить «чем могу служить?» не хотелось.
– К вам, – Воропаев ощутимо выделил голосом слово «вам», – ваше высокоблагородие, у меня вопросов нет никаких. Кроме одного – могу ли я видеть лейтенанта Дмитрия Завалишина?
«Зачем этому жандарму Дмитрий Иринархович? – недоумение встало в душе тяжёлой волной, и почти тут же директор догадался. – Четырнадцатое декабря!». Наверняка лейтенант во что-то замешан – Гвардейский флотский экипаж чуть ли не в полном составе вышел на Сенатскую. Удивительно было бы, чтоб этот пусть и мальчишка, но волевой, деятельный и маниакально честный мальчишка не был замешан. Самому надворному советнику недавно сравнялось пятьдесят девять, и на суету молодёжи он часто смотрел покровительственно и снисходительно – постоянно помнилась народная мудрость «Кто понял жизнь, тот никуда не торопится».
Жандарм ждал, и на его лице постепенно появлялось странное выражение – словно он терял терпение. И он по-прежнему продолжал морщиться.
– Вам нехорошо, штабс-ротмистр? – участливо спросил директор, и на недоумевающий взгляд офицера пояснил. – Вы всё время морщитесь.
– Прошу прощения, – Воропаев несколько смутился, оправил мундир (новый, недавно пошитый, а вот панталоны чуть подкачали – не голубоватые жандармские, а тёмно-синие, васильковые, – драгунские, изрядно потёртые, но ещё добротные). И почти тут же штабс-ротмистр, словно прочтя мысли надворного советника, подтвердил его догадку. – Гастрит у меня, боюсь, язва скоро будет. У аварцев в яме заработал. Я ведь в жандармерии недавно, только с лета, до того в драгунах служил, горцев замирял. Вот и угодил в плен…
Надворный советник коротко кивнул – признание Воропаева о его боевом прошлом оставило Михаила Матвеевича равнодушным.
– Однако мы отклонились, ваше высокоблагородие, – офицер вернул разговор в русло, отрешившись от на мгновение овладевшей им слабости. – Так я могу видеть лейтенанта Завалишина?
– Лейтенант Завалишин сейчас находится в отпуске, – медленно, раздумывая над каждым словом. – Его нет в Петербурге уже полтора месяца.
– Вот как, – с лёгким замешательством пробормотал штабс-ротмистр. – Это несколько меняет дело… но именно, что несколько.
Он несколько мгновений помолчал, разглядывая стол директора, словно увидел на нём что-то экзотическое, вроде индейского томагавка, сплетённого из прутьев гибиска и с заострённым камнем в навершии. Но томагавка на столе не было, он висел на стене за спиной директора – подарок чугацкого тайона[30 - Тайон – вождь индейцев, алеутов и эскимосов на Аляске. Чугачи – русское название эскимосов южного побережья Аляски с полуострова Кенай и пролива Принца Вильгельма (Чугацкого залива).] ещё из тех времён, когда Булдаков сам торговал в Русской Америке – на Кадьяке и в Ситхе.
– Могу я узнать, куда он отбыл в отпуск, ваше высокоблагородие? – выпрямляясь и опять чуть морщась спросил Воропаев.
– Разумеется, – любезно отозвался директор, но почти тут же переспросил. – В свою очередь я хотел бы знать, какая у жандармского офицера нужда в моём подчинённом?
Штабс-ротмистр опять помолчал какое-то время, потом сказал сухо и официально:
– У меня приказ к его арестованию по делу бунтовщиков четырнадцатого декабря.
– Он… замешан? – Михаил Матвеевич замер на мгновение, одновременно страшась ответа и ожидая его. Но Воропаев разочаровал его ожидания:
– Я не в курсе таких подробностей, ваше высокоблагородие, – сказал он всё так же сухо и официально. – Моё дело – арестовать его и доставить на офицерскую гауптвахту Зимнего дворца.
Надворный советник задумчиво покивал и позвонил в колокольчик. Велел появившемуся на пороге секретарю:
– Павел Сергеевич, голубчик, будьте любезны – нужен адрес, по которому отбыл в отпуск лейтенант Завалишин.
Воропаев удалился, чуть звякая шпорами – трик-трак, дзик-дзак! – и это звяканье, хоть и негромкое, долго ещё слышалось из коридора через неплотно притворённую секретарём дверь. А надворный советник обессиленно упал в кресло – набитая конским волосом кожаная подушка мягко приняла его, спружинила и отпустила. Директор компании откинулся на спинку кресла и задумался. Думал долго, глядел в невысокий, покрытый разводами сырости потолок. Мысли путались, цеплялись одна за другую, мешали одна другой. В конце концов директор рывком встал из кресла, набил трубку, прикурил от свечи в канделябре[31 - Канделябр – настольный подсвечник.] и принялся расхаживать по кабинету, на каждом повороте невольно взглядывая за окно – на улице сгущались тёмно-синие петербургские сумерки, кое-где уже и горели фонари. Вот очередной зажёгся прямо около ворот правления компании. Булдаков остановился у окна, опёрся коленом на широкий низкий подоконник (колено чувствовало сквозь сукно панталон ледяной холод отполированного дерева) и, попыхивая трубкой, глядел через окно, как со столба неторопливо и размеренно, без лишней суеты, спускается по складной железной лесенке фонарщик. Вот он спрыгнул с последней ступеньки, встряхнулся, разгоняя застывшую кровь и стряхивая с тулупа снег, подхватил лесенку и, не складывая её, зашагал к следующему столбу.
Можно бесконечно смотреть на то, как работает другой человек, – пришло в голову где-то слышанное, чья-то глупая мысль. Глупая, которая притворялась умной.
За спиной бесшумно отворилась дверь, истопник длинном армяке (директор видел его отражение в подёрнутом инеем стекле) втащил в кабинет невеликое бремя дров. Осторожно, чтобы не громыхнуть и не повредить ничего – ни изразцов, ни паркета – истопник опустил дрова на прибитый к полу железный лист перед каминной решёткой, выпрямился и покосился на директора:
– Камин-то топить, ваше благородие?
Помнит, – подумал с кривой усмешкой Михаил Матвеевич, не оборачиваясь. Завтра новогодье, многим хочется со службы уйти пораньше. И большинство надеются, что директор Российско-Американской компании – не исключение.
То так, не исключение. А только праздник не нынче ночью, а только ещё завтра.
– Топи, Потапыч, топи, – вздохнул Булдаков, отходя от окна и снова усаживаясь в кресло. Опять пыхнул трубкой, покосился на бумаги, разложенные по столу, никакая работа на ум не шла после визита штабс-ротмистра. Истопник удовлетворённо кивнул, споро, но без лишней суеты уложил дрова, высек огонь, и скоро в камине весело плясали языки огня, с лёгким треском облизывая звонкие берёзовые поленья, а в трубе загудел дым. Истопник с поклоном скрылся за дверь, а Михаил Матвеевич, несколько мгновений полюбовавшись огнём (живой огонь и текущая вода – вот на что можно смотреть бесконечно, а не на то, как другой человек работает!), вдруг замер. Несколько мгновений он смотрел куда-то на стену рядом с камином остановившимся взглядом, обдумывая пришедшее в голову, потом кивнул сам себе, словно с чем-то соглашаясь и потянулся к колокольчику.
– Павел Сергеевич, будьте любезны доставить мне все докладные записки и рапорты Дмитрия Иринарховича, – и в ответ на удивлённый взгляд секретаря уточнил. – Все, в том числе и те, которые ещё не переданы выше.
Бумаг накопилось немало – толстая картонная папка была набита до отказа, едва хватало тесёмок, чтобы её завязать. Надворный советник криво улыбнулся, вспомнив, как шептались за спиной у Завалишина – что, если бы его изредка не одёргивало начальство, то он это самое начальство утопил бы в бумагах. Впрочем, злые языки злыми языками, а идеи из Завалишина и впрямь летели, как струи из фонтана. И далеко не все из них были пустыми. Лучше даже сказать – пустых среди них пока что директор не встречал ни одной. Вот только не все из них можно было сразу подавать наверх – иные требовалось подредактировать – в увлечении сочинительским пылом лейтенант Завалишин порой допускал такие обороты, что прицепись к письму злопыхатель или крючкотвор – совсем нетрудно было бы трактовать их как оскорбление величества или подстрекательство к бунту.
Неосторожен Дмитрий Иринархович, ох, неосторожен, – вздохнул директор, пытаясь развязать узелок на тесёмке.
– Позвольте помочь, ваше высокоблагородие, – предложил секретарь, но Булдаков только отмахнулся:
– Я сам, Павел Сергеевич, спасибо, ступайте.
Секретарь на мгновение задержался на пороге, обернулся, словно пытался что-то разглядеть – то ли то, как тучный директор будет развязывать крохотный узел, ковыряя его коротко стриженными тупыми ногтями или цепляя его зубами (вот заняться больше нечем надворному советнику!) то ли то, что директор будет делать с бумагами (не твоего ума дело, голубчик! вот уж точно!). Пожал плечами с лёгким недоумением и даже чуть обиженно и скрылся за дверью.
Мучиться с узлом директор не стал. Перочинным ножом перехватил тесёмку, и бумаги из раскрытой папки веером рассыпались по паркету прямо около камина. А, сгорел сарай, гори и хата! Надворный советник сдёрнул с кресла подушку, швырнул её на пол рядом с ворохом бумаг, примостился на подушке, вытянув измученные подагрой тощие ноги – старческие, кривые, в сбившихся набок чулках (и так стал сам себе жалок в этот миг!).
Вот проект об обзаведении земледелием в Русской Америке с основанием постоянных поселений в Калифорнии и переселением туда крестьян-добровольцев из крепостных.
В огонь!
Вот докладная о пользе утверждения русского флота на Сандвичевых островах и его крейсировании от оных до Сакраменто.
В огонь!
Вот предложение об овладении всем течением реки Амур, дабы утвердить русское господство на Дальнем Востоке и наладить регулярную торговлю мехами с Китаем.
В огонь!
Вот критика миссии Резанова в Калифорнии и Японии с указанием по пунктам, что именно сделано не так, и как именно нужно было это делать.
В огонь!
Вот докладная о необходимости союза с нарождающимися революционными хунтами Америки в пику испанскому правительству и Северо-Американским Соединённым Штатам.
В огонь!
Вот меморандум об опасности доктрины Монро для русских владений в Северной Америке – с резолюцией «Предерзостно!, сделанной лично рукой покойного государя.
В огонь!
Бумаги корчились в огне, чернели и рассыпались пеплом. Булдаков, чуть прикусив губу, пошевелил в глубине камина кованой тяжёлой кочергой, разгребая обгорелые листы. Огонь вспыхнул веселее.
Грамотный купец вовремя избавляется от убыточных и опасных активов.
Лицо директора было каменно-равнодушным.
4. 2 января 1826 года, Архангельская губерния, Поморский берег, Онега.
Серебро лежало в ларце тяжёлой грудой, тусклым блеском отражая огоньки светцов и свечей. Частой россыпью темнела чернь, отливала золотом эмаль. Старинное узорочье, ещё от прапрабабки, небось, из времён самого царя Алексея Михайловича, а то и Ивана Васильевича даже. Да и ларец хорош – морёный дуб да рыбий зуб, орех да узорная ковань – тоже старинная работа, тех ещё мастеров, которых сейчас вряд ли где сыщешь.
Приданое, шуликун[32 - Шуликун – святочная нечисть (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C), сезонные духи (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)), которые накануне Рождества (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0) выходят из воды на землю, а после Крещения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8) уходят обратно в реки и проруби.] его возьми.
Впрочем, Акулина лукавила сама перед собой – смотреть на старинное серебро ей нравилось. Потому и на гулянку сегодня не пошла, ни на посиделки, ни буянить с молодняком – радости не было на душе, вот и тешила её узорочьем. Хотя кто иной как раз наоборот, побуянить бы пошёл. Святое дело на святки кому-нибудь ворота снегом завалить, а то наметать на крыльцо сугроб по самую кровлю, притоптать плотнее, чтоб хозяин наутро из дома выйти не мог; поленницу развалить, раскидать по всему двору, сани на кровлю повети втащить, ограду разобрать да жерди в сугроб воткнуть стоймя. Ворчит на другой день хозяин сквозь зубы, суетится на дворе, а виноватых искать не пойдёт. А то и искать их не надо, сами у ворот похаживают за через заплот поглядывают – поймёт хозяин намёк или не поймёт. Не поймёт – ну и бог с ним, сам разберётся. А поймёт – поднесёт по стаканчику да вяленого палтуса с пирогом – сами всё в порядок приведут. А хозяин и рад тоже с ними угоститься. Сам когда-то таким был, сам то же самое творил, потому – понимать надо! Потому – праздники, святки, божье время! А таких, кто ругаться бегает, виновных ищет, а то и подраться норовит – таких не любят. Из года в год пакостят.
Хаживала и Акулина на такое озорство с парнями и девками, собиралась и нынче, а только с вечера вдруг подкатило к душе – стало грустно, как частенько в последнее время бывало, вот и осталась дома – на старинное серебро поглядеть, жемчуга погладить – пусть и не настоящие индийские, а здешние, северные, речные, а всё ж таки! Так и представлялось, что вот в этих жемчугах да эмалях бы, да вот под венец… с ним!
Акулина воровато оглянулась, словно рядом кто-то мог подслушать её мысли.
Но рядом никого не было – одна в пустой горнице.
Где-то далеко, за двумя дверьми, за рубленой стеной, за сугробами снега, шумели ряженые – слышался девичий визг, смех парней, выкрики – кто-то хорохорился перед другими, выпячивая грудь. Акулина так и представила, как Спиря Крень (почему-то сразу подумалось, что это именно он – провалиться бы ему!), подбоченясь, гоголем ходит да покрикивает. В берестяной машкере[33 - Машкера – маска.] с настоящим свиным пятаком, приклеенным к берёсте на рыбий клей, и овчинном тулупе навыворот.
Представилось вдруг вживую, и Акулина фыркнула, чуть ли не хрюкнула со смеху – до того уморительным ей вдруг представилось зрелище.
После того, как на летних посиделках Спиря едва не схлестнулся с кадетами (а у него уже и свинчатка в рукаве была наготове, она-то, Акулина, это хорошо видела), он стал вести себя так, словно она ему что-то обещала. А ей даже видеть его морду было противно. И вот удивительное же дело – парень как парень, не косой, не кривой, не рябой, силой бог не обидел, не дурак… чего ей ещё надо-то?
Не чего, а кого, – тут же возразила она сама себе, и почувствовала, что краснеет. Захлопнула резную крышку и отодвинула ларец подальше. Встала из-за стола, прошлась по горнице от красного угла до печи и обратно, словно пыталась этим прогнать смущение и злость.
Наверху, в полухолодной летней горнице, пели на пять голосов – к матери пришли три подруги, да приживалка с ними:
Вдоль улочки, вдоль широкой,
Вдоль по лавочке, по торговой,
Вдоль по травоньке, вдоль по мураве
По лазоревым цветочкам,
Во танец пошла красная девка.
Голоса звенели – вёл неожиданно (для тех, кто не знает) сильный и звонкий голос приживалки Лукерьи. Вроде и поглядеть не на что, сморщенная старушонка, а голос – одарил бог. За тот голос и держали на дворе – работы никакой Лукерья делать не могла, а вот голосом хозяевам потрафила. А уж мать с подругами подхватывали и подпевали.
Танцовала девушка, приустала,
Приустала красная, задремала;
Задремала, спать ложилась
К милому дружку на колени.
Акулина остановилась у окошка – поглядеть наружу было уже нельзя – ставни на ночь заложили, поберечь тепло. Заслушалась. Так и представилось – сидят впятером у печной трубы (кирпичная труба проходила из нижнего жила через горницу, от неё тянет теплом – вьюшка там, наверху), жужжит, крутится прялка, на светцах трепещут огоньки. Приживалка сучит пряжу шершавыми от многолетней работы ладонями, мотает клубок. А на столе, застелённом небелёной скатертью – пляшка медовухи, поливные и стеклянные стаканы, кутья горкой, олений окорок, копчёная сиговина, мочёная клюква, тульские пряники, калитки и козули.
Гостеванье не гостеванье, посиделки не посиделки.
Всё враз.
Милой во гусельцы играет,
Сам девушку потешает…
«Стань, девушка, , стань ластушка!
Воно идёт твой батюшка
Со родимой со матушкой!» –
– «Иванушка – мой батюшка;
Васильюшка животочек –
Тот мой миленький дружочек.
Я батюшки не боюсь,
Родимого не стыжусь!
Играть пойду, – не спрошусь,
С игры приду, – не скажусь,
С кем гуляю, – не стыжусь!»
Не про неё ль и поют?
На душе захолонуло – неволей вспомнились опять те посиделки в июле. Вот ведь дурища – сама к Власу на шею полезла. А ему то и не нужно вовсе! О питерской небось мечтает, расфуфыренной, в фижме да с декольтой!
Акулина топнула ногой, сжала кулаки.
На дворе глухо подал голос Молчан – коротко рявкнул и тут же смолк. Кого-то несло. Мгновение Акулина раздумывала, не убрать ли ларец с глаз подальше, но так и не шевельнулась – домашние знали про её любимую утеху, а по голосу Молчана было ясно – пришёл кто-то свой.
Отец из гостей воротился, должно быть. Святки – время гостевания. Обычно отец с матерью ездили в гости по родне вместе – к родне да к друзьям, таким же купцам-промышленникам, да к своякам-свояченицам. А сегодня на обоих какой-то стих нашёл: отец – к брату двоюродному в мужскую компанию, а мать – дома с женщинами.
Рановато он, – хмыкнула про себя Акулина, глянув на часы английской работы на стене (дорогая штука даже для онежского купца – отец неложно гордился перед всем городом тем, что у него есть дома часы, как и у больших господ).
Должно быть случилось что-то.
Отец ступал тяжело, грохнул дверью в сенях – должно быть, был гневен или просто не в духе. Интересно, с чего, – у Акулины на душе вдруг непонятно от чего похолодело, словно она предчувствовала, что отцовский гнев будет касаться именно её.
«Господи, пронеси», – прошептала она, но креститься не стала, просто нашла взглядом икону на тябле[34 - Тябло – божница, полка для икон.]. Потом подумала пару мгновений и вдруг, решившись, села за стол, снова раскрыла ларец и сложила руки перед собой – паинька, да и только. Сидит себе, никого не трогает, узорочье разглядывает.
Наверху завели новую песню.
Молодость, молодость, девичья красота!
Я не думала, молодость, измыкати тебя!
Измыкала молодость чужая сторона,
Чужа дальня сторонка,