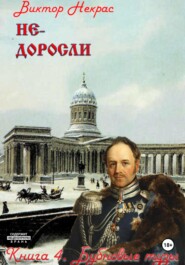скачать книгу бесплатно
– А… что именно не получилось-то? – осторожно спросил Глеб, но художник в ответ только махнул рукой:
– Оставьте… это совершенно не важно. Замышлялась чепуха, и вышла чепуха, достойная только в печку попасть. Поговорим лучше об ином.
Фёкла вплыла в гостиную, величаво плыл перед ней по воздуху поднос – та же чашка кофе, тот же стакан с водой, тот же рахат-лукум. Вот только двигалась она иначе, не так, как подавала кофе гостям – как-то истово, что ли, благоговейно. Глеб заметил это ещё в прошлый визит, отметил про себя истовость, с которой экономка прислуживала хозяину и обыденность, с которой гостям. Отметил, как странность – и забыл.
Олешкевич подхватил с подноса чашку, замер на мгновение осязая неуловимый кофейный аромат, потом, словно дождавшись, пока экономка выйдет из гостиной, сказал равнодушно, словно о чём-то малозначащем:
– Пришло письмо от пана Мицкевича.
Невзорович промолчал, понимая, что он тут младший, которому не стоит показывать свою осведомленность, рискуя показать только глупость. Да и вряд ли это говорилось для него, это он тоже понимал. Зато Кароляк оживился.
– Как дела у пана Адама? Наслаждается одесским климатом?
– Наслаждается, – хмыкнул Олешкевич, делая первый глоток. – Только не одесским, а московским. Особо ничего не пишет, только выспрашивает подробности про… – художник помедлил несколько мгновений, словно раздумывая, назвать ли вещи своими именами или всё-таки обойтись иносказанием, и выбрал второе, – про известное всем дело. О том, что волнует всех.
И правда, сказать яснее можно было только брякнув слово «мятеж», «заговор» или «беспорядки».
– Ну так пусть пан Мицкевич знает, что русские заговорщики проиграли во всём, – сказал Кароляк напрямую, откровенно презирая словесные увертки. И правда – было бы кого стесняться.
Глеба внезапно охватило странное и неприятное чувство, – он вдруг ощутил себя словно бы марионеткой в руках опытного кукловода в какой-то странной и малопонятной ему пьесе. Он мягко отставил в сторону опустевшую чашку, бросил в рот последний кусочек рахат-лукума и поднявшись на ноги, отошёл к окну. Стоял у подоконника, прижимаясь лбом к ледяному стеклу, и, чуть прищурясь, разглядывал колышущиеся по ветру верхушки заснеженного бурьяна в запущенном саду.
И слушал.
– Так полагаете? – приподнял бровь художник. Он тоже отставил чашку (причем поставил ее по рассеянности прямо на раскрытую толстую книгу на туалетном столике), упёрся кулаками в колени и стал внезапно похож на хищную птицу, готовую взлететь – Глеб отлично видел его отражение в зеркале справа, пусть даже и краем глаза.
– А разве ж это не так, пан Юзеф?! – запальчиво и вместе с тем ехидно бросил Кароляк. – Константин… (он поискал подходящее слово, словно не хотел нелицеприятно выразиться о брате царя) испугался, Литовский полк тоже проиграл. А на престоле теперь – молодой и решительный царь вместо Константина…
– Кто бы мог подумать, – брезгливо кривя губы, сказал Олешкевич и чуть отвернулся. – Кто бы мог подумать, что он откажется… ни во что пришлись все старания. Ах, княгиня Лович, княгиня Лович…
– Она не виновата, пан Юзеф, вы это прекрасно знаете, – резко перебил его Кароляк. – К тому же она нужна была нам около Константина… кто бы мог подумать, что именно это и станет причиной…
Он оборвал свои слова и махнул рукой.
– А мы? Мы проиграли? – спросил художник после недолгого молчания. Какое-то время они оба глядели друг на друга, совершенно, казалось, забыв о том, что кроме них в гостиной есть ещё кто-то. А сам «кто-то» помалкивал.
Слушал.
– Мы выиграли главное, – сказал, наконец, Кароляк. – Сохранили организацию, избежали репрессалий… проскрипций… Так считают и в Вильно, и в Варшаве…
– Мы потеряли союзников, и это кажется мне гораздо более важным, – горько покачал головой Олешкевич.
– Невелика потеря, – криво усмехнулся Габриэль. – Всё равно общей юшки с ними сварить бы не вышло. Они и друг с другом-то сладить не могли – одним республику подавай, другим – парламентскую монархию… вряд ли они бы поняли наши цели.
И повторил:
– Так считают и в Вильно, и в Варшаве.
Глеб сжал зубы – от слов Кароляка становилось горько и тошно на душе.
3. Санкт-Петербург, 25 декабря 1825 года, Екатериненгоф.
Звонили в колокола.
Сначала доносился негромкий звон откуда-то издалека, должно быть, с колоннады Казанского собора, почти сразу же вслед за ним мягко накатывался перезвон из-под шпиля Петропавловки, а потом все их властно накрывали колокола Николы Морского – этот собор был ближе всех, его и было слышно лучше. И только потом едва слышно вплетался звон откуда-то совсем издалека, как бы не из Александро-Невской лавры (хотя в это Власу слабо верилось – далековато).
Помор открыл глаза. На стёклах протаяли окошки, и в них весело лилось солнце – словно весной. А говорят, в Петербурге солнца не дождёшься, а зимой – и тем более. В широких полотнищах яркого солнца на паркете бродили едва заметные тени – по небу ползали облака. На улице свистели мальчишки, слышался колокольчик извозчика, звонко и весело скрипел под ногами снег. Где-то за закрытыми дверьми звякала посуда, слышались голоса прислуги – кто в господском доме встаёт раньше остальных? – Конечно, дворецкий или экономка, а следом за ней – кухарка. Или повар. У кого как.
Дворецкого в этом доме не было – не настолько были богаты потомки шаутбенахта Иевлева, а экономка была одновременно и кухаркой. С кем же она разговаривает? – озадачился на мгновение Влас, но почти тут же понял – дворник, должно быть, зашёл, с праздником поздравить да чарку вина выпить за здоровье хозяев. А может и не только хозяев, но и экономки – до прекрасной дамы ей было далеко, конечно, но вчера вечером Веничка, чуть посмеиваясь и смущённо краснея, рассказал, что дворник чуть ли не каждый день заходит поцеловать ей ручку. А тут – Рождество, тем более!
Вспомнив про Веничку, Влас невольно поискал его глазами. А чего искать-то? Кузен спал. Поджав ноги и свернувшись в клубок под толстым одеялом (за ночь комната довольно-таки выстыла, хотя Власу, с его привычкой к беломорским холодам это и было нипочём), он подложил правый кулак под щеку и ровно сопел носом, выводил переливы. Утренний сон самый сладкий, верность этих слов Смолятин проверил на себе неоднократно – бывает, что в корпусе, услышав барабан на побудку, глаза не в силах разлепить.
А вот сегодня не спалось.
Не до того.
Помор прерывисто вздохнул и осторожно, чтобы не разбудить Венедикта, повернулся на другой бок. Удачно повернулся, почти без шума. Походная складная кровать Иевлева-старшего, не в первый раз уже приютившая Власа, оказалась невероятно скрипучей и на малейшее движение кадета то и дело отзывалась разноголосым пением. В этот же раз она только чуть слышно скрипнула каким-то рассохшимся стыком. У Власа, как и всегда в таких случаях, мелькнула раздражённая мысль: «Дворяне, столичные жители, а такую рухлядь дома держат!», тут же, впрочем, им благополучно забытая – взгляд Власа остановился на книжных полках. Но сегодня его совершенно не тянуло встать, на цыпочках подкрасться к ним, вытащить с полки, к примеру, «Легенду о Монтрозе» и снова нырнуть под тёплое одеяло. В прежние свои гостевания у Иевлевых он каждый раз так и делал.
Не сегодня.
Да и не стоило понапрасну ослушничать – добро ещё, после мятежа Иевлевы не отказались от сомнительной родни, замешанной в заговоре на жизнь государя. Могли и на дверь указать. К чему семейству статского советника такие родственники – карьеру только ломать!
Влас закусил губу и злобно шмыгнул носом.
Опять!
В нём опять заговорило то, что он не любил в себе и своей родне больше всего. Фамильное материнское любование самоуничижением. То, из-за чего Седуновы долго не знались с Иевлевыми совсем, то, из-за чего за пять лет жизни в Петербурге Аникей не нашёл даже дня времени, чтоб не то что навестить дальнюю родню – даже и повидаться с ними.
Гордыня бедности.
Краем уха Влас уловил едва слышное шевеление и тут же закрыл глаза – притворился спящим, подсматривая сквозь ресницы – он умел так смотреть, не моргая, со стороны казалось, что он спокойно спит.
Почти бесшумно приотворилась дверь, и в комнату заглянула женская голова – точёный овал лица и прямой, с вырезными крылышками ноздрей, нос; высокий лоб и чёрные, воронова крыла, волосы, уложенные в аккуратный греческий узел. Самая модная причёска в Петербурге на конец тысяча восемьсот двадцать пятого года, – столичные модницы щеголяли с такой причёской в солидарность с греческими героинями и в пику политике покойного ныне государя, который «не желал помогать одним головорезам против других». Мать Венедикта, Софья Ивановна Иевлева, в девичестве Сабурова. Живые тёмно-карие, почти чёрные глаза быстро обежали взглядом комнату, и голова тут же исчезла, оставив, впрочем дверь приотворённой.
– Спят? – услышал Влас за дверью негромкий, но от того не менее скрипучий чем обычно голос Веничкиного отца. Сильвестр Иеронимович говорил тихо, даже не вполголоса, а полушёпотом, но разобрать слова всё-таки было можно.
– Спят, – вздохнула в ответ Софья Ивановна.
– Ну и пусть себе, – проскрипел Иевлев-старший. – Досталось мальчишке… пусть хоть в рождество в домашнем поспит…
Про меня говорят, – холодея, понял Влас. И вслушался – что-то ещё скажут?
– Да уж… вот оказия так оказия, – проговорила мать Венички тоже полушёпотом. – Не знаю, что и делать… никакого ума не прикладывается. Угораздило же его брата…
Помор сжал зубы. Вот сейчас они и скажут то самое, после которого останется только сделать вид, что ничего не заметил и не понял, но перестать сюда ходить, а с Веничкой-кузеном свести всю дружбу к официальным отношениям. Краями разойтись, как сказал бы уличник Яшка-с-трубкой.
– Да, это верно, – скрипнул статский советник по дипломатической части.
– А что, Сильвеструшка… помочь ему никак? – голоса утихали – должно быть, старшие Иевлевы удалялись от двери Венькиной комнаты. – Может, похлопотать как-то… поднести что-нибудь кому-нибудь?
– Да я уж и сам подумывал… – расстроенно проскрипел Сильвестр Иеронимович. Дальше Влас не слышал – родители Венички ушли. Но если бы и остались и разговаривали в полный голос у самой двери – он и то вряд ли разобрал бы хоть что-то. В душе стоял грохот и сумбур – словно ледоход на Двине или Неве, когда огромные грязно-зеленоватые пузырчатые льдины теснясь ползут по течению, налезая одна на другую, сталкиваются с треском и грохотом, крушат друг друга в мелкие осколки.
Софья Ивановна хлопочет за Аникея?!
Да так, что готова дать кому-то на лапу?
Влас рывком сел на кровати – она немедленно отозвалась ноющим многоголосым скрипом, но помор не обратил на это внимания. А Венедикт даже не шелохнулся – крепок утренний сон.
А глаза-то у тебя уже на мокром месте, – укорил себя Влас, снова шмыгая носом и утирая предательскую слезу, – она катилась по носовой пазухе и уже смочила солёной горечью губы.
На мокром.
Дуэлянт хренов.
Карбонарий[7 - Карбонарии – члены тайного, строго законспирированного общества в Италии в 1807 – 1832 гг.].
Будущий морской офицер.
Девчонка и только!
Влас снова шмыгнул и решительно принялся выбираться из тёплого одеяла.
В коридоре кадет почти сразу же столкнулся с Софьей Ивановной.
– Влас! – обрадовалась она. – И уже в парадное оделся?
Влас словно бы увидел себя со стороны ее глазами – раннее утро, а он уже – в штиблетах и мундире. Ладно ещё фуражку не надел.
Усмехнулся.
– А ты чего так рано встал – ещё и ж восьми часов нет?
– Привык, – сумрачно ответил помор. – В корпусе побудка рано…
– А Венедикт, видимо, не привык, – задумчиво удивилась Софья Ивановна. – Каждый раз спит чуть ли не обеда.
– Ну… – затрудненно пробормотал Влас. – Мне ещё надо…
Он встретился с ней взглядом и вдруг покраснел – понял, что сейчас она неправильно его поймет.
Она именно неправильно и поняла. Видимо, именно из-за того, что он покраснел.
– Ты что, забыл, где у нас уборная?
– Не забыл, – процедил Влас. – Мне другое нужно – с мужем вашим поговорить…
– С дядей Сильвестром, – мягко поправила она, улыбаясь.
– Именно, – насупился Влас. – С дядей Сильвестром.
– Он в кабинете, – опять чуть удивилась Софья Ивановна. – Помнишь, где у нас кабинет?
– Спасибо… тетушка… – с лёгкой запинкой выговорил кадет. – Разумеется, помню.
«Дядя Сильвестр» (у Власа язык всё ещё не поворачивался назвать его дядей) отозвался на стук в дверь мгновенно. Проскрипел из-за двери: «Ворвитесь» со сдержанной иронией.
Влас ворвался.
Ну то есть, вошёл, конечно. Шагнул через невысокий порожек, притворил резную ореховую дверь и остановился, оглядываясь.
В кабинете Иевлева-старшего кадет Смолятин ещё не бывал ни разу, хотя в доме Иевлевых он за прошедший от знакомства с Венедиктом и Софьей Ивановной год был уже достаточно частым гостем – не в пятый ли раз оставался с ночёвкой.
Собственно, смотреть было особо и не на что. Обтянутые недорогим и неброским темно-зелёным шелком стены, такие же, как и по всей квартире, несколько книжных полок, доставленных толстенными томами в матерчатых и кожаных переплетах, потёртых и побитых временем, со стёртой позолотой и серебрением букв. И запах в кабинете стоял особенный – чернила, старая бумага, кожа и лёгкий дымок сгоревшей бумаги. Обтянутый вытертой кожей и даже на вид удобный небольшой диван, кресло в противоположном углу. Подсвечники на стенах и на небольшом столе. Пожалуй, единственным примечательным предметом в кабинете Сильвестра Иеронимовича был секретер английской работы – строгая изысканная скромность форм, темное полированное дерево, скорее всего, орех, обилие потайных ящичков и открытых полочек, откидная столешница и встроенный бронзовый письменный прибор на пять предметов и такой же подсвечник на верхней крышке. Около секретера и сидел «дядя Сильвестр» – повернулся навстречу Власу на поворотном стуле с выгнутой спинкой. За его спиной в неглубокой ниже секретера Влас успел заметить раскрытый бювар жёлтой кожи с разложенными бумагами и толстую книгу на деревянном пюпитре.
– Доброе утро, Сильвестр Иеронимович.
– Доброе утро, Влас, – скрипнул «дядя Сильвестр». На его пенсне поблескивали блики утреннего солнца из окон. – Не спится?
– Не до сна, – сумрачно ответил кадет, по-прежнему стоя у порога.
Иевлев-старший несколько мгновений разглядывал насупленного родственника, потом кивнул в сторону кресла.
– Присядьте, кадет. Я чувствую, у вас серьезный разговор.
Кресло оказалось очень удобным, Влас сразу же утонул в нем и чуть разозлился – нега сбивала с толку. Лучше было бы сесть на стул. Но ладно уж. Не пересаживаться же.
Он выпрямился как мог, положил ладони на толстые подлокотники и сказал, стараясь произносить слова как можно официальные:
– Сильвестр Иеронимович… – и, помедлив, – ваше высокородие…
«Дядя Сильвестр» поморщился и перебил – голос его вдруг стал ещё более скрипучим, хотя казалось бы, дальше скрипеть просто некуда:
– Кадет, вы сейчас, я так думаю, хотите наговорить кучу невообразимых и невыразимых глупостей вроде того, что ваш брат замешан в заговоре, а значит, я рискую карьерой и положением в обществе, принимая вас в своем доме, и тому подобное прочее, не так ли?
Щеки Власа словно охватило огнём, он опустил голову и признался:
– Так.
– Оставьте это досужим сплетникам, – в голосе статского советника явственно слышалось высокомерие, но – странное дело! – Влас чувствовал, что относится оно отнюдь не к нему.
– Спасибо, Сильвестр Иеронимович, – прошептал он, пряча глаза и больше всего боясь, что в них опять стоит соленая вода.
– Не стоит благодарностей, кадет, – сухо сказал «дядя Сильвестр», и этот его тон чудовищно не вязался с тем, что именно он говорил. – Даже если бы я и рисковал чем-то… родственников не выбирают, это единственные люди с нашей жизни данные нам от бога, и грех этим пренебрегать.
– Дядя Сильвестр, – выговорил, наконец, Влас и вскинул на статского советника отчаянные глаза. – А… вы не можете похлопотать… через свои связи.. у вас ведь наверняка есть связи по дворе?.. хотя бы о свидании с Аникеем?
В глазах Иевлева-старшего стояло странное выражение – словно случилось что-то такое, чего он давно ждал. Ну не относить же это к тому, что Влас, наконец, назвал его дядей?
– Я попытаюсь, Влас, – скрипнул он, и этот скрип впервые не показался кадету неприятным и чужим. – Обещать определенно не могу, но я попытаюсь.