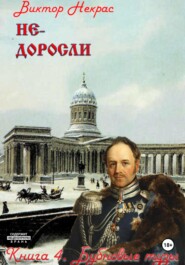скачать книгу бесплатно
– Поть-поть-поть! – упряжка разом взяла с места, рванула сани.
А мичман, чуть сгорбясь, побрёл к крыльцу – какая уж теперь церковь, после таких-то известий?
Февронья оправила сарафан, глянула на своё отражение в лохани – праздничная головка двинского жемчуга, серебряные серьги с чернью, длинные грозди колтов[24 - Колт – древнерусское женское украшение, полая металлическая подвеска (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0), прикреплявшаяся к головному убору и часто украшенная зернью (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C), сканью (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C), эмалью (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C), чернью (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C_(%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)). Предположительно, во внутреннюю полость закладывался кусочек ткани, смоченный благовониями (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F).] на вышитой кичке[25 - Кика, кичка – древнерусский женский головной убор с рогами.] – жена мичмана Смолятина любила рядиться по старине, ещё той, допетровской. Порой напоминала себе о том, что она теперь дворянка, а только всё равно – свои, поморские, наряды казались и приятнее глазу, и удобнее, и к душе лежали больше, чем роброны и салопы[26 - Роброн – европейское женское платье XVIII века с очень широкой колоколообразной юбкой. Салоп – верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с прорезями для рук или с небольшими рукавами, часто на подкладке или вате. Салопы шили из бархата, шелка, дорогого сукна, часто на подкладке, вате или меху (в основном из куницы и соболя), с бархатными или меховыми отложными воротниками.]. Да и кому их тут показывать-то, у самого Белого моря? Кто поймёт? Только посчитают, что вознеслась Февронья Смолятина, возгордилась. И правильно, пожалуй.
– Мама, ну пойдём же, – Иринка уже стояла у порога, наряженная так же, как и мать, только рубаха не голубого цвета, а рудо-жёлтого, и сарафан не тёмно-зелёный, а светлый, травчатый. Да и жемчуга с серебром пока что не было – возраст не тот, рановато. Натягивала полушубок оленьего меха и никак не могла попасть в рукав.
– Сейчас, дочка, сейчас, – улыбнулась Февронья, снимая с деревянного гвоздя свой полушубок. – Не спеши…
Артёмка сидел на лавке, насупясь – он давно уже оделся и теперь ждал, пока «бабы, наконец, нарядятся».
В сенях грохнула дверь – тяжело, с маху – и все трое разом замерли, повернувшись к двери. Февронья уронила полушубок на пол.
Под тяжёлыми шагами скрипели половицы – никогда не скрипели даже когда Логгин нёс снаружи большое бремя дров или ноги плохо держали хмельного.
Отворил дверь, шагнул через порог, глянул бешено и тяжело. Февронья попятилась – никогда ещё не доводилось ей видеть Логгина таким. Шевельнул плечами, сбрасывая медвежий тулуп.
– Логгин, – она попыталась улыбнуться. – Пора в церковь идти, а ты всё в этой старой шубе…
Он промолчал. Швырнул шубу на лавку, тяжёлыми шагами, так и не притворив дверь, дошёл до стола.
– Отче? – нерешительно позвала Иринка – губы кривились от непонятного страха – дочь тоже никогда не видела отца таким.
Гулко булькая, рванулась из бутыли клюквенная настойка, светилась в стакане, словно кипящая кровь. Логгин на мгновение задержал руку, потом залпом выцедил настойку, не поморщась, зажевал куском пирога с треской.
– Логгин? – позвала мужа Февронья, уже понимая, что случилось что-то страшное. – Ты чего это, до заутрени-то разговляешься?
Муж повернулся к ней от стола, глянул тяжело и страшно – таким жутким в свете лампад было его лицо, что Иринка не выдержала – заплакала. А Артёмка бросился к матери и обхватил её за ноги, прячась за подолом сарафана.
Новость ударила, словно громом.
В первое мгновение Февронья скривила губы и даже завыла-запричитала, но почти сразу же оборвала вой и плач – не тот она была человек, правнучка Ивана Рябова-Седунова, победителя свейской эскадры.
Повесила полушубок обратно на гвоздь – и впрямь уж тут не до церкви.
Верно рассудил муж.
– Верно рассудил, – сказала она вслух. Логгин хлопнул глазами, не понимая, потом всё же понял, как-то боком кивнул, кривя губы. Сел за стол, сдвинув локтем блюдо с капустой и клюквой, сидел, молча глядя куда-то в запечек, словно там домовой корчил ему рожи или жестами пытался подсказать, что надо делать.
Думал.
Задумчиво налил второй стакан, пошарил взглядом по столу, отыскивая кусок на заедку.
– Пить-то с горя тоже не дело, – хмуро сказал Февронья. – Она так и стояла у печи в праздничном сарафане, подперев щёку ладонью и осуждающе глядя на мужа.
– Не бойсь, жена, не запью, – отозвался Логгин, махнул стакан, сунул в рот кусок копчёной оленины. Прожевал и сказал, подняв на жену глаза. – Собирайтесь. В церковь пойдём.
– Да… как?
– Да так, – яростно ответил мичман. – Никто не умер, некого отпевать. Праздник есть праздник. Пусть все видят, что нас не согнёшь. Вечером баню протопим, а завтра – в Петербург поеду. Хлопотать.
Несколько мгновений Февронья глядела на мужа непонимающе, потом, вдруг разом поняв, просияла и кивнула головой.
И правда ведь. Никто не умер. А от тюрьмы, как от сумы – хоть и не зарекайся, а спастись всё ж можно.
Прав мичман.
2. 24 декабря 1825 г. Казанская губерния.
Солнце вдалеке чуть коснулось красным набрякшим краем зубчатой стены леса – тёмно-зелёной, почти чёрной, с густой россыпью белизны снеговых шапок. Вечерний морозец чуть пощипывал щёки и кончик носа, пытался забраться в незастёгнутый ворот полушубка. В воздухе – ни ветринки, и только редкие некрупные хлопья снега, медленно кружась, падают на сугробы, на дорогу, утоптанную лаптями, валенками и копытами, укатанную санными полозьями.
Гнедой Гуляй звучно фыркнул, переступил копытами, качнув всадника – звучно хрустнул под подкованными копытами прихваченный морозом снег. Лейтенант Дмитрий Иринархович Завалишин вздрогнув, очнулся от задумчивости и огляделся по сторонам, словно пытаясь понять, как он сюда попал, что он тут делает и вообще – кто он такой.
Нет, всё это лейтенант, конечно же, помнил и так. Просто забытье какое-то напало. Он весело поёжился, поведя плечами под полушубком (холодно не было, просто – привычка), поправил на голове валяную крестьянскую шапку (носить армяки и гречневики среди русских дворян вошло в особую моду после «грозы двенадцатого года», вместе с модой на всё русское, с лёгкой руки Дениса Давыдова) и легонько ткнул Гуляя каблуками под крутые, откормленные на барском овсе, бока. Следовало торопиться, чтоб дотемна вернуться домой – и без того прогулка затянулась.
Гуляй снова фыркнул, словно показывая хозяину, что его напоминания излишни, и что задержались они исключительно по его, хозяйской, вине, и неторопливой рысью затрясся под уклон пологого холма к селу, за которым на другом таком же холме высился барский дом – двухэтажная бревенчатая постройка со стёсанными и оштукатуренными стенами (чтоб походила на каменную – Завалишин навидался таких построек ещё в Петербурге, где петровский запрет строить из дерева издавна обходили именно таким способом).
Верховую езду Дмитрий Иринархович не любил, хоть и неплохо умел держаться в седле. Не любил – но не пускаться же на прогулку пешком – по снегу-то, который выше колена, а кое-где и по пояс. Не лето, чай, когда можно в любой уголок дойти пешком.
Впрочем, пожалуй и правда стоило бы поспешить. Мичман понукнул Гуляя и на улицу села въехал уже размашистой рысью, проскакивая мимо плетней и высоких заплотов, мимо покрытых толстым слоем снега тесовых и соломенных кровель. Во дворах и домах царила предпраздничная суета – сочельник как-никак, голодная кутья, вот-вот первая звезда зажжётся. Вкусно тянуло дымом, сладким печевом – хлебом, пирогами, калитками, шаньгами и кокурками, – свежесваренным пивом, жареным и печёным мясом.
Кто-то где-то, не дожидаясь первой звезды, уже пел:
Ой, овсень, бай, овсень!
Что ходил овсень по светлым вечерам,
Что искал овсень Иванов двор.
У Ивана на дворе три терема стоят.
Первый терем – светел месяц,
Второй терем – красно солнце,
Третий терем – часты звёзды.
Что светел месяц – то Иван-хозяин,
Что красно солнце – то хозяюшка его,
Что часты звёзды – то детки его.
Уже у самых ворот барского двора Завалишина настиг весёлый трезвон бубенчиков. Мичман обернулся – по улице вслед за ним мчалась пароконная кибитка[27 - Кибитка – полукрытый, с отверстием спереди, летний или зимний экипаж.] – возвращался из Казани усланный туда вчера мачехой управитель Федот (мачеха, по своему пристрастию к французскому языку звала Федота мажордомом, а все трое Иринарховичей, кто по привычке, а кто нарочно, из непокорства – управителем или дворецким, и только младший Ипполит, Полюшка, мачехин любимчик чтобы угодить Надежде Львовне, частенько звал Федота и по-французски тоже). Дмитрий Иринархович чуть удивлённо приподнял брови – по его подсчётам, управитель должен был вернуться чуть позже, уже впотемнях… неужели что-то случилось? Впрочем, почему же обязательно случилось? – тут же возразил себе мичман. – Может быть, просто с делами управился раньше…
Сторож Проша уже отворил ворота, кланяясь. Дмитрий Иринархович въехал на двор первым. Он уже успел спешиться и подняться на крыльцо (Гуляя, у которого вздымались заиндевелые бока, уводил конюх), когда кибитка Федота буквально влетела в ворота и остановилась в двух шагах от крыльца.
Должно быть, всё-таки что-то случилось, – подумал Дмитрий Иринархович, глядя на всё это безобразие – обычно Федот на барском дворе себе таких выходок не позволял. – На душе вдруг стало холодно – нахлынуло какое-то странное предчувствие.
Неужели?..
Мажордом, между тем, выбирался из кибитки – плотный и широкий, в нахлобученном на самые глаза треухе, в тяжёлом и длинном тулупе, под медвежьей полостью, он был неповоротлив, как медведь же. От него ощутимо пахло водкой – как и не погреться в дальней дороге. Кучер Савелька на ко?злах тоже ежился – ему было ещё холоднее, чем Федоту, хоть он и в таком же тулупе.
В небе, густо и темно засиневшем, зажглись первые звёзд. Из села, откуда-то со стороны церкви, доносилось весело-задорное:
Уж дай ему бог,
Зароди ему бог,
Чтобы рожь родилась,
Сама в гумно свалилась.
Из колоса осьмина,
Из полузерна – пирог
С топорище долины?,
С рукавицу ширины.
– Что стряслось, Федот Силыч? – окликнул мичман, дождавшись, пока управитель повернётся к нему лицом. Управителя в барском доме все, и даже хозяева, непременно величали по отчеству – Федот Силыч внушал. Как своей могучей и неповоротливой медведистой внешностью, так и деловой хваткой и умением вести дела в пользу хозяев, не забывая, впрочем, и себя. – Умер кто-то?
Федот встряхнулся, сбрасывая с плеч на руки подскочившего кучера медвежью полость, хлопнул дублёными рукавицами, подошёл ближе и только тогда ответил:
– Тревожные вести, Дмитрий Иринархович, – в голосе управителя звучали одновременно почтение и тревога – настоящая, неподдельная. – В Питере[28 - В XIX веке Питером столицу называли в основном провинциалы-простолюдины и «понаехавшие» в Петербург из провинции на заработки. Для них и прозвище было соответствующее – «питерщики».]-то что творится…
– Что? – тревога в голосе управителя словно передалась мичману, усилив его собственную, и вновь затопила всю душу. В Петербурге! Что это там, в Петербурге?!
– Мятеж, барин, – к тревоге и почтению в голосе Федота примешался откровенный страх. – Гвардия на площадь вышла, против государя нового, Николая Павловича. Хотя, говорят, Константина и какую-то Конституцию на престол. Жена цесаревича, должно быть…
В другое время Дмитрий Иринархович откровенно захохотал бы, но не сейчас – в ушах колоколами грохотал набат, перед глазами всё плыло и шаталось.
– И что? – онемелыми губами спросил он. Пошарил рукой, отыскивая опору, ухватился за резную дверную ручку морёного дуба, выдохнул. – Чем дело закончилось? Кто ныне государем у нас?!
– Николай Павлович, – с пиететом ответил Федот, выпрямляясь. – Он повелел тех мятежников картечью из пушек раскатать. И раскатали…
Мичмана шатнуло, но вовремя пойманная дверная ручка помогла устоять на ногах.
Картечь…
– Это слухи или?.. – слабая надежда всё ещё теплилась. Чего только не болтают люди.
– Да какие там слухи, Дмитрий Иринархович, – безжалостно ответил Федот, не понимая, с чего это молодой господин так побледнел. – Во всех газетах прописано…
– Привёз газеты? – надежда трепыхнулась ещё раз и исчезла.
Конечно же, привёз…
Вчерашний день будет, без сомнения, эпохою в истории России. В оный жители столицы узнали, с чувством радости и надежды, что Государь Император Николай Павлович воспринимает Венец своих предков, принадлежащий ему и вследствие торжественного, совершенно произвольного Государя Цесаревич Константина Павловича, и по назначению в бозе почивающего Императора Александра, и в силу коренных законов империи о наследии престола. Но Провидению было угодно, сей столь вожделенный день был ознаменован для нас и печальным происшествием, которое внезапно, но лишь на несколько часов возмутило спокойствие в некоторых частях города. <…> Уже по исходе первого часа дошло до сведения его величества, что часть Московского полка (как сказывали, от 5 до 4 сот человек), выступив из своих казарм, с развёрнутыми знамёнами, и провозглашая императором великого князя Константина Павловича, идёт на Сенатскую площадь. <…> Они построились в батальон-каре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединились несколько человек гнусного вида во фраках. Небольшие толпы черни окружили их и кричали: «Ура!». <…> К ним подъехал Санкт-Петербургский военный губернатор, граф Милорадович, в надежде, что его слова возвратят их к чувству обязанности, но в ту самую минуту стоявший возле него человек во фраке выстрелил по нём из пистолета и смертельно ранил сего верного и столь отличного военачальника. Он умер в нынешнюю ночь.
<…>
Но государь император ещё щадил безумцев, и лишь при наступлении ночи, когда уже были вотще истощены все средства убеждения, и самое воззвание преосвященного митрополита Серафима пренебрежено мятежниками, его величество наконец решился, вопреки желанию сердца своего, употребить силу. Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Конница ударила на слабые остатки бунтовавших, преследуя и хватая их. Потом разосланы по всем улицам сильные дозоры, и в шесть часов вечера из всей толпы возмутившихся не было уже и двух человек вместе; они бросали оружие, сдавались в плен. В десять часов взято было дозорами более пятисот, они скитались рассеянные; виновнейшие из офицеров пойманы и отведены в крепость.
<…>
Признания уже допрошенных важнейших преступников и добровольная явка главнейших зачинщиков, скорость, с коей бушующие рассеялись при самых первых выстрелах, изъявления искреннего раскаяния солдат, кои сами возвращаются в казармы оплакивать своё минувшее заблуждение, всё доказывает, что они были слепым орудием, что провозглашение имени цесаревича Константина Павловича и мнимая первая присяга, от коей его императорское высочество сам произвольным и непременным отречением своим разрешил всех, служили только покровом настоящему явному намерению замысливших сей бунт, навлечь на Россию все бедствия безначалия.[29 - «Северная пчела», №152, декабря 19-го, 1825 г.]
Завалишин выронил газету, и огромный, сложенный вчетверо лист бумаги повалился сначала на колени мичмана, а потом сполз на пол. Дмитрий Иринархович о стоном закрыл лицо руками.
Что ж вы натворили-то, господи?!
Где-то в глубине дома нарастал весёлый шум и суматоха – пришли ряженые со звездой, и из прихожей уже доносилось пение:
Кишки да ножки в печи сидели,
В печи сидели, на нас глядели,
На нас глядели, в кошель хотели.
Скажите, прикажите,
У ворот не держите,
Кочергами не гребите,
Помелами не метите,
Винца стаканчик поднесите!
А ему вдруг мгновенно представилась промороженная заиндевелая площадь, сумрачные ряды солдат, клубы дыма с грохотом вылетают из пушечных жерл, визжит вспоротый картечью воздух, горячая кровь плавит снег и застывает на булыжной мостовой. И мёртвые тела на снегу – застывшее восковое лицо, испачканное кровью.
Лица друзей.
Кто из них ещё жив, а кто схвачен или «добровольно явился»?
Завалишин не хотел знать ответа.
3. 30 декабря 1825 года, Санкт-Петербург, правление Российско-Американской компании
Жандармский офицер невольно вызывал у надворного советника Булдакова симпатию. В годах, но не распустился, не обрюзг, не заплыл жиром – подтянутый и стройный, в каждом движении понимающему взгляду ясно читается готовность к действию (а людей на своём веку Михаил Матвеевич повидал немало и научился в них разбираться). Немного портило впечатление то, что офицер (штабс-ротмистр, – определил надворный советник по эполетам) то и дело морщился, словно ему что-то мешало.
– Итак, сударь?.. – Михаил Матвеевич какую-то неуловимую долю мгновения помедлил, но штабс-ротмистр, тем не менее, её уловил.
– Штабс-ротмистр Воропаев, к вашим услугам, – он не отчеканил, не отрапортовал, просто сообщил свой чин и фамилию – без вальяжной ленцы и покровительственного тона, как следовало бы ожидать – в городе поговаривали, что при нынешнем царе да после четырнадцатого декабря жандармерия скоро войдёт в большую силу, и естественно было бы ожидать от них высокомерия.
– Надворный советник Булдаков, – в тон ему сообщил офицеру директор. – Директор Российско-Американской компании. Чем могу быть полезен?