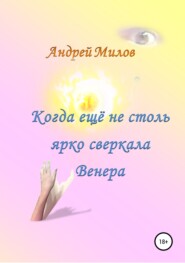 Полная версия
Полная версияКогда ещё не столь ярко сверкала Венера
Отрицание государства и мировая пролетарская революция, отрицание частной собственности и классовая борьба – эти фундаментальные основы марксизма ну никак не вяжутся с нынешними идеалами государственного строительства в отдельно взятой стране и мечтой строителя коммунизма квартиру отдельную получить, прикупить себе автомобиль, домишко загородный построить. Черчилль бы определил сей парадокс так: фундамент разрушен, и здание держится на одних лишь домкратах?
А это, подхихикивает профессор, чистейшей воды троцкизм. Коммунизм не догма, а идея в развитии.
Я же тут и брякнул, не подумавши: поп проповедует вечную загробную жизнь – иди-ка, проверь, в своём ли он уме?! А коммунизм – это рай на земле. Мне пообещали через 20 лет, а теперь – уже на горизонте маячит, как морковка перед носом у осла, чтоб тянул свой крест, не запинаясь на дороге. Вот ежели б, как намекали, формулу вечной жизни изобрели, тогда б справедливое государство, хочешь по Платону – хочешь по Марксу, само собой выкристаллизовалось бы.
Профессор прищурил другой глаз, и сквозь прищур его взгляд недобрым лукавством просверкнул. Я, конечно же, смекнул, что через край хватил, но говорил ведь не я – за Черчилля я как бы говорил. В поддавки с профессором играл, ожидая в ответ таких мудрых, таких веских слов, чтобы самому уверовать в бессмертную идею. Иначе, ежели сам не веришь, то как же на кафедру всходить – без веры, без убеждённости в словах? Так не честно, бессовестно будет.
Вот ты, коллега, можешь представить себе на амвоне в церкви попа безбожного, неверующего? И я не могу. Бога в голове нет, а в душе вера жива. Так и идеи коммунизма живы, пока в них верят сами вожди, ведущие в светлое будущее.
Профессор имел терпение дослушать своего неразумного ученика, а затем, всё по той же доброте душевной, обозвал меня словом нехорошим, словом туманным и обидным. Ну, какой я ему оппортунист? Просто живу, гляжу на мир и думаю, а что думаю, то и говорю. Да и не я ведь говорю – Черчилль говорит за меня…
«Что у идиота на уме, то у дурака на языке», – завершил наш диалог мудрый профессор и предрёк мне на горизонте одну из стихий голубых – с овчинку.
Как сказал бы мой лечащий врач: «Ушедши от темы, оппонент перешёл на личности». А мой лечащий врач – большая умница, очень проницательный человек, по психотипу, кстати сказать, нечто среднее между персонажами Кафки и Фрейда, и я был бы склонен доверять ему, ежели б он был моим лечащим врачом в иных стенах и при иных обстоятельствах.
Короче говоря, если ученику не повезло с учителем, то никак нельзя утверждать, будто не повезло пациенту с лечащим врачом. Что правда, то правда.
«Не сметь говорить!» – наставлял меня старый еврей.
Я слушал Черчилля, и мне впервые за всё это время становилось жалко себя – такого же полудурка, каков и сам он есть.
– Поэтому я здесь – там, где место ему, профессору, – так заключил свой горький монолог мой друг по несчастью Черчилль.
Я понимающе кивнул.
– Но я убегу и расскажу всем. Потому что мне не только истина дорога, но и правда не чужда. А хочешь, коллега, мы убежим вместе? Слово против слова, и нам двоим скорее поверят. Если двое толкуют об одном и том же, то это факт. Не мною – ими положено. Факт – это крупинка. Из крупинок складывается таковость, то бишь так, как есть. А за то, как есть помимо воли, людей обычно не судят. На дураков же не принято обижаться.
«Только не сметь жалеть себя, – напутствовал меня старый еврей. – Человек выживает только тогда, когда хочет жить. Но жить ещё надо научиться, не жалея себя, иначе не выжить».
Он сдержал своё слово – раз: меня перевели из тюрьмы в больницу для тех, кто слаб умом. Сдержал своё слово – второй раз: он навестил меня здесь и даже к Черчиллю отнёсся по-доброму.
Ефим Львович сдержит своё слово – в третий раз: меня выпустят отсюда.
А вот Черчилля не выпустят, потому что я – это пока что я, а вот Черчилль – не Черчилль. И нет у него своего старого мудрого еврея, посланного кем-то, кому принадлежит его жизнь. Но Черчиллю я этого не скажу. Мне жалко его.
Я послушный, я жить хочу – запретил себе жалеть себя. А вот жалеть другого – это правильно, потому что, как говаривала бабушка, это угодно её богу. Вот я и жалел Черчилля. Больше некого было жалеть. Не себя же?! Но только молча, про себя жалел, потому что так велел мне старый еврей.
VIII. Timeo Danaos Et Dona Ferentes
Но не будет здесь новой могилы,
Ей и рядом с любимым не быть:
Где-то дальний подлесочек хилый
Под кладбище грозятся срубить…
А. Милова
Я снова брежу. Снова грежу. Я схожу с ума, и меня уносит по волнам памяти куда-то вдаль, чтобы только не быть там, где я есть.
Нет ничего более дальнего, чем самое ближнее, потому как, кажется, всегда доступно. И не всё, что очевидно, то верно, и не всё, что верно, – очевидно.
Молва часто бывает сродни правде. Особенно в малом городишке, где люди слухами живут: в одном углу шепнёшь – в другом эхом отзовётся.
Помнится, стоял не по-осеннему тёплый сентябрь, сухой и солнечный. К вечеру тускнела позолота палисадников, и тяжёлые дозревающие груши и яблоки, оттягивая долу корявые ветви, сливались в сумрачном воздухе в смутную серую массу. На чернеющем по-осеннему, казалось бы, холодно-приветливом небе к западу в просвете меж двух тополей над крышей дома смущённо зардеет красноватая звёздочка. Теперь он знает: то не звезда – то кровожадный Марс. И трудно было представить, что грязная осень уж готова выплеснуть ушат мёртвой воды на истощающееся в родах полесье. Сентябрь, и он, маменькин сынок, ходит в школу сам, а после школы – к маме в больницу.
Ему не до болтовни о лосе, что где-то бродит по городу, а может, и не бродит. Мама говорит, что папа в командировке, и бабушка ей вторит, но почему же тогда весь год, что папа в командировке, она проливала украдкой слёзы на подушку, сохранившую, наверное, ещё запах папиного одеколона? Она перестала плакать. Высохли и заметно похорошели глаза. Подобрели, смягчились, появился озорной блеск и чёрный ободок. Маме так шли сухие блестящие глаза в ободке чёрно-сизых теней! И ещё заострившийся подбородок, и выросшая горбинка на носу…
Скоро уже год, как папа в командировке. Он был хороший папа. А мама – в больнице – красивая, словно этот сентябрь, и умирающая, точно увядающий по осени палисадник. Умоется осень дождями, завьюжит морозная и снежная зима, разрежет молнией, разверзнет громом хляби небесные – и майским утром, окроплённый живой водой, расцветёт по весне палисадник. А мама…
Сын шёл к маме. Больница отстояла за три квартала от дома. Городишко был пустынен. В это время даже рынок полупуст. Тем непривычнее смотрелось столпотворение у белёной каменной больничной ограды. Как если бы машина сбила пешехода и на несчастье сбежалась толпа зевак. Божьи твари крайне хрупкие и уязвимые создания… и очень-очень любопытные.
Особенно мальчишки любопытны. Поэтому любой мальчишка, подобно маслу в дымящейся каше, легко и естественно проникает сквозь любую толпу. И только в первых рядах можно ощутить некоторое неудобство, главным образом, из-за пышной тётки, что умостит свои твёрдые груди у тебя на плечах. Наверное, она тоже чья-то мама.
Впрочем, ещё раньше, даже не видя толпы у больничной стены, он уже знал, что стряслось: «Лось! Лось!» – витало в воздухе повсюду, и он не побежал следом за мальчишками и девчонками потому только, что ему не досуг: сын шёл к маме.
Городские часы отбили нехитрую мелодию – время поторапливаться. Он задержался у входа всего-то с пяток минут, чтобы поглазеть на лося, что пришёл к людям. Люди ищут защиты у бога. Звери, случается, у человека – как у богоравного, с их точки зрения, существа. Говорят, такое бывает не редко, даже по радио говорят и в газетах пишут, – стало быть, и об этом случае напишут.
Толпа волновалась: кто о чём. Он не слушал. Он был поглощён созерцанием дикого зверя на городской улице.
Ожидая увидеть полутораметровые рога лопатой, зевака не мог избавиться от чувства разочарования оттого, что рогов не было на привычном месте. Мохнатая грива и мохнатая серьга, свалявшаяся тёмно-бурая шерсть да морда как плюшевая дыня, к которой пришили удлинённые беспокойные уши и под нос горбылём прилепили мясистую губу, – всё как обычно, как в зверинце. Но только нет самого главного, самого лосиного – нет больших крепких рогов.
– Эвона как! Да энтот лось – просто глупая лосиха, – выкрикнули совсем рядом: очевидно, в толпе многих волновало отсутствие рогов на голове зверя. – У неё с молока собирают сливок втрое больше, чем у коровы.
Из-за больничной ограды вышли женщины в белых халатах. Толпа, может статься по привычке, расступилась, образовав живой коридор. Но женщины не пошли, удовлетворившись тем, что было видно поверх голов. Белёсые ноги-ходули возносили зверя выше белокаменной больничной стены.
Белые халаты и не выветриваемый ничем больничный дух напомнили лёгким укором: пора идти к маме. Она ждёт. Но он стоял, стоял, стоял… Ну ещё самую малость, лишь только одну ещё минуточку.
Из-за больничной стены вышел мужчина, тоже в белом халате, и увёл женщин, выговаривая им на ходу.
И вдруг толпа пришла в движение. Лосиха вздрогнула, широко циркулем раскинула задние ходули, хвостик приподнялся – шипение, брызги веером от асфальта во все стороны, окропив передних солёным душем. Пенясь по асфальту, зажурчали ручьи, мутными языками устремились под ноги зевакам. Задние, полные любопытства, напирали – передние пятились, пытаясь ретироваться.
Сыну, в самом деле, пора было идти к маме. Он обернулся, чтобы уже идти, и нечаянно угодил подбородком тётке точно в низкий вырез платья – отёр ладонью лицо, стирая с себя чужой аромат тела и духов, и в смятении попятился. Ступил в ручей, тут же перепрыгнул на сухое место поближе к лосихе, а оттуда – стремглав в волнующуюся толпу. Уже на выходе услышал:
– Надо же?! Дурное-дурное, а гляди-ка – соображает! Где нагадило, там стоять не станет.
В толпе где стало поплотнее, а где и поредело, и он, легко выбравшись из гущи тел, уж направился было к больничным воротам, тряся на ходу подмокшим сандалем, когда у обочины резко затормозил грузовик и одним колесом перевалил за бордюр, скрипя наращёнными бортами кузова.
Нечто острое, тревожное всколыхнулось в груди, и сын, не медля ни секунды, побрёл к двухэтажному больничному корпусу, где с краю на втором этаже – угловое окно маминой палаты.
Позади слышалось:
– Эка невидаль?! Посторонись! Дорогу!!!
«У-уф!» – в ответ горько вздохнула лосиха, словно бы сетуя на безысходную участь.
Лечащий врач сказал, что готовит маму к выписке, а у мамы, ещё сильнее похудевшей и осунувшейся, в глазах не было радости. Ему казалось, что глаза её удивительным образом напоминают ему глаза лосихи. Умные, печальные, красивые. Только у мамы глаза были светло-серые, а у лосихи почти чёрные – тёмно-карие, с кофейными прожилками на бежевых белках глаз. Во всём остальном такие же, тоскливо-тревожные…
Утром он уходил в школу, а вернувшись, замечал, что у мамы сегодня глаза блестят ярче обычного, а когда она пытается улыбаться, глаза её, теперь в ободке фиолетовых теней, подёрнуты задумчиво-грустной поволокой.
– Бог сущ. Всё видит и всё слышит, – говорила бабушка, видать, внуку в утешение. – Как справедливое, так и несправедливое – всё-всё устроено им в этом мире справедливо, и нам остаётся лишь только безропотно принять его волю. Обидно и больно до слёз. Если б жизнь можно было не только брать, но и давать, тогда б, верно, нашлись бы такие, более равные, чем все мы, кто продавал бы лишний денёк или годок, как персики на базаре, – ну а так, как теперь, на нет и суда нет.
Вот и папа приехал… бросить ком земли да швырнуть горсть медяков в свежевырытую промёрзлую могилу, на дне которой в деревянных одеждах теперь почивает мама. И время опять побежало вперёд.
Мало-помалу жизнь входила в свою невесёлую колею.
– Меня мама родила, я живу – я умру. Стало быть, бог есть… – твердил он упрямо про себя, когда вспоминалась ему лосиха.
Но он, однако ж, всеми силами старался не вспоминать лосиху, потому что, вспоминая лосиху, он вспоминал и прощальное выражение её глаз – почти такое же, как тогда… у мамы. Ему отчаянно хотелось плакать, но плакать он себе не позволял – и слёзы, переполнив горючей влагой до самых ресниц глаза, проливались сами.
Память устроена таким странным образом, что никто над нею не волен. Только от этого никому не легче.
IX. Молитва
Мир стал темнеть, и слово, одно слово могло объяснить всё. Но его не было.
Александр Грин. Бегущая по волнам
Ничтожная пылинка бытия…
Внесебяяпросилямолилябылнеядетскаяслезатепломгорючимнетронетбожественнойгордынилёд…
Недремлющее око…
Втебяяверюиневерю…
Всемилостивейший! Всемогущий!..
Ктебесмолитвойвзорыобращаюттобойпугаютхвалухулуприемлешь…
Зачем ты есть?!
Помирусеешьсемясулишьблагаибожийсудибожьякаранетвтебелюбвиначаласостраданьянинагрошоднанапыщенностьпустогопузыря…
Бог ты мой…
Глухойслепойнемойнетбогаравнодушнейжальтебявтвоейнемойгордыне…
Когда б прозрел ты, о боже ж мой…
Сгорелбыверноотстыда…
Не богоравный – жалкий… Кто я такой, чтоб сметь с тобою говорить?!
Длятебяничтожнейпылипридорожнойнадеждыозареньестрахуничиженьянетчувстваболеепечальногочемгоречьразочарованья…
Молю тебя я…
Судуземномуявипрозреньячудоитемискупишьтысвоигрехипередомной…
Заблудшая душа…
Отвергнутьизабытьневидетьнеслышатьнемолить…
Нет бога в сердце. Нет бога на земле…
Как школяр, в первом классе: по слогам – и все ударные да напевные… вслух или про себя. Безмолвно шевеля губами, я вздымал к небу глаза и в причудливых сплетениях облаков пытался высмотреть божественный лик – и тогда, когда над головой простиралось небо от восхода до заката, и тогда, когда голубой лоскуток был в решето. Упал бы ниц и бился лбом – о землю сырую, о пол бетонный. К самому бы богу прильнул в благоговении – молитвой, мольбою, душою и телом… Но не казал мне лика своего сей господин суровый.
Давать ответ на бесконечно вечные вопросы?! Нет, ниже оного достоинства с небес бездонных на землю плоскую и грешную сойти, чтобы внимать речам страдальцев. Зачем тогда ты есть, бесчувственный, безликий господин?!
Крест смиренным – клинок непокорным. Как меч приговор судьбы. Бог есть идея. Идея – обман, ибо во что веришь, тому и служишь. Сколько идей, столько и божков…
– Всё в руках божьих, – сказал Ефим Львович, приехав за мной в больницу на чёрной «волге», с шофёром. – Прими свободу как дар небесный. И не ропщи на судьбу.
В бога уже не верил, чёрта ещё не боялся – и вторым рождением обязан был явлению ангела-хранителя по имени Фома. Он не святой, посланник не бога и не судьбы – просто его жизнь принадлежит моей бабушке. А бабушке не нужна его жизнь, бабушке надо знать, что внук её жив, здоров и счастлив, – вот и всё. Ефим Львович, или дядя Фома, дал мне другую жизнь, чтобы можно было жить, не оглядываясь назад.
Того, кем я родился, в списках живущих отныне не значилось…
Судьбу можно обмануть – от себя, однако, не убежать.
***
Была глубокая ночь, и, быть может, поддавшись магии невозмутимой тишины, мастер изливал заворожённому слушателю свою горькую-прегорькую тоску, как если бы выговорившись – он мог вырвать её с корнем из своей жизни.
– Чуть что, не то время, не то место, и пошло-поехало: завертелись шестерёнки бездушной машины. Зачем её смастерили? Известно зачем – крутиться, затягивать, перемалывать и выплёвывать. Да чтоб я сам, по собственной воле, сунул свой пальчик меж зубцы сего Молоха? Нет уж, увольте! Или что прикажете?! Ждать, а как там, в поднебесной канцелярии, распорядятся долей какого-то жалкого, никчёмного человечишки?
Близилось утро. Выпили мы изрядно. А чего спьяну не наболтаешь?! С утра, бывает, всплывёт сквозь мутный туман облачко памяти – и уж стыдно за сказанное в хмельную минуту.
Чтоб не было потом мучительно больно и досадно, рассвета решили не дожидаться…
Киса Алиса первой услыхала, как провернулся ключ в замке двери, и своим радостным мяу приветствовала на пороге хозяйку дома. Хвост трубой, и ей, кисе, невдомёк, отчего хозяйка косит неприветливым взглядом, отчего, брезгливо кривя крыльями, поводит носом.
На столе улики – свидетельство ночного разгула.
Ему бы каяться, тосковать в отсутствие обиженной супруги, а он, – вы, мол, поглядите только! – что за сабантуй устроил?! В доме семейные ценности: золото, деньги, шуба… А тут в одних трусах мужик чужой, непонятно чейный.
Жена не скандалила, и ничего такого не говорила, – у неё чертами да резами всё было написано на лице. Ну а гримасу, вестимо, к делу не пришьёшь, даже если ни одной каракули – всё строгим каллиграфическим почерком рисовано во взгляде.
Моего гостя сдуло как ветром.
– Я лучше пойду, – зашептал мастер, собираясь впопыхах. – Сейчас мне только скандала не хватало.
И след его простыл, а червячок беспокойства ещё долго душу точил.
Я часто ночами выглядывал в окно в надежде увидеть одинокий светлячок – увы, московских окон негасимый свет в доме напротив гас, как назло, согласно с другими окнами. Никто в минуту грусти и печали в моё окно снаружи не глядел.
А червячок всё точил, точил… Точил аж до самого донышка, имя которому – тоска…
Когда тоска просится наружу, я украдкой извлекаю из-за шкафа свою «Тоску» – и часами гляжу в бесконечную даль, на одиноко мерцающие звёзды в холодной бесконечности отчуждённого космоса. Тело невесомо – я учусь витать вдали от земли родимой. Высоко-высоко возношусь… и падаю, ночной кометой пролетая в чёрном небе.
Ложь
Утомила правда – надоела кривда
И путь унылый бытия,
И ноша тяжкая моя
Меня ужасно изменили.
Тарас Шевченко
Как-то так уж выходит, что нет-нет да невольно вляпаешься в историю. Нет, не ту былую, о которой всяк горазд судить, но сквозь пыль веков мало кто прозревает, и не ту нечаянную и нелепую, которую с утра бывает самому себе стыдно припомнить, а именно чужую, чью-то личную, ничего не значащую для тебя самого и окружающих историю, зачастую очень горькую, поведанную с непритворным прямодушием. Нередко историческое прозрение происходит под рюмочку белой и хмельной, когда чувства преобладают над заторможённым разумом, и посторонний человек, именно в силу того, что он сторонний созерцатель, в минуту откровения кажется близким, едва ли не родным.
Кто скажет, будто я умею слушать, это совершенно неверно. Слушать я не умею и не люблю, да и сам терпеть не могу изливать душу первому встречному. А если вынуждают обстоятельства – вру беззастенчиво.
Мне кажется, и многие согласятся со мной, что, вместо того, чтобы искать внимающих ушей незнакомца и терзать жалостливыми историями душу ни в чём не повинного божьего создания, лучше бы пойти в церковь да поставить свечку.
Короче говоря, не с кем поделиться – откройся священнику. Если богу не веришь, а церкви чураешься, тогда топай прямиком к психоаналитику. Но подобного рода пастыри, однако ж, у нас пока ещё не бог весть в какой чести. При наших отечественных кухнях и лестничных клетках, намерение посетить кабинет специалиста по душевным расстройствам сродни мысли выйти на балкон и в сердцах по ветру развеять вчерашнюю получку.
Едва ли не любой сосед или соседка всего лишь за пол-литра и исповедают, и обогреют, и посочувствуют, и даже посоветуют. Как сам с собою: говоришь, вспоминаешь, рассуждаешь… и проснулся – с помелья и один. А в дверь уже стучат. Так что не дай бог в час душевной слабости под руку подвернётся добрый соседушка! Потом не расплатишься. Той же монетой.
Вот так и случаются казусы. Человеку надо выговориться, его распирает, и он бы рад поделиться с любым, кто только готов его выслушать, да говорливых и рассудительных, однако ж, среди нас встречается много больше. Телевизор, радио, книга – это пожалуйста, а нытик, изливающий душу, – увольте уж. С какой стати грузить себя чужими, ежели собственных проблем не разделить?
А как иначе?! Не в поезд же садиться: Москва – Владивосток?
Особый случай – это когда тебе совсем не до откровений, а тебя, наоборот, пытают. Ну, что там у тебя? Как? Где? Почему да отчего? Время. Место…
Не в настроении – не беда. Достаточно представить себя в кабинете следователя, который по долгу службы обязан задавать неудобные вопросы. Естественно, он с пристрастием допытывается. Но тут всё много проще: ты понимаешь, что дознаватель противная, а не безразличная сторона. Выслушав вопрос, считаешь про себя до двадцати и этак вежливо просишь повторить. Чутко, с выражением неподдельного участия на лице, внимаешь вопросам и опять считаешь до двадцати. Затем, употребив с дюжину местоимений, по столько же слов-паразитов и междометий, опять замолкаешь секунд на двадцать и уж затем, выказывая полное смущение от своей очевидной бестолковости, честно признаёшься, что не понял.
Нельзя ли уточнить?
Да чего тут не понять-то, а?!
Следователь обычно сердится, кричит и втолковывает свои противные вопросы заново – берёшь передышку, насколько позволяет наглость, и только затем простодушно держишь ответ, но вот отвечаешь совершенно не то, чего надеются услышать от тебя. Невпопад отвечаешь, причём охотно и подробно рассказываешь. Когда тебя готовы растерзать, ты искренне обижаешься. Не повредит с оскорблённым видом замкнуться в себе ещё на чуток, якобы мучительно переживаешь. Ты искренне не понимаешь, чего от тебя хотят: ведь ты же отвечал, а тебя просто не пожелали слушать. Главное, теперь говорить много и быстро, преимущественно одно и то же, но разными словами. Вместо ожидаемого «да» – «нет». И наоборот в самых безобидных ситуациях. Тут же поправлять себя, опять всё путать и извиняться, повторять всё сызнова. Не забудь про местоимения! Говорить, говорить, говорить. Без умолку. Честно и убедительно… Пока не прервут. Морду при этом, конечно, тоже могут начистить, но только тогда, когда вопрос серьёзный, а так, скорее всего, примут за идиота.
Дурень никому даром не нужен: каждый хочет свою работу делать хорошо. У него-то, у следователя, какая задача? Выслушать и, закрыв дело, посадить, с тем чтобы умник отныне не столько даже слушал, сколько был послушен. Им не дурень, им не умник – им послушник нужен.
Ну а коль дело и впрямь швах – соответствующая статья Конституции, позволяющая тебе не доносить на самого себя и близких, хороший адвокат, с которым уже беседуешь по душам, и, разумеется, толстый кошелёк наготове.
Из всего, что было сказано выше, всякому должно быть ясно: я не поп, я не психолог, я мало и неохотно общаюсь с соседями по лестничной клетке, я не люблю ездить в поезде, а тем более, я не являюсь следователем по каким бы то ни было делам. Не говоря уж об особо важных. И вообще, я не очень любопытен. Тем не менее, иногда говорят, что я располагаю к себе.
«Чем?» – спроси кто, отвечу честно: – «Да ни чем!»
Просто я не люблю обижать людей. Тем более, понапрасну. Как и не люблю на пустом месте проявлять характер. Обычно я сдержан, вежлив и в меру участлив. А ежели мне нечего сказать, то улыбаюсь. Наверное, приветливо. Кто-то скажет – глупо. Ни на йоту не испытываю стеснения, когда молчу прилюдно, во время людных сборищ охотно ищу уединения. Случись остаться наедине с самим собой, всегда найду, чем занять себя. Мне никогда не бывает скучно. Я не знаю, что такое уныние. Ну а плохого настроения ни при каких обстоятельствах стараюсь не выказывать. Вот люди, верно, и ошибаются в своих впечатлениях. Ошибаются потому, что сами без причины улыбаются мало. Или же иногда им хочется погасить чужую улыбку? Тоже не исключено. Меня, впрочем, уязвить непросто: я сам себе на уме. Ну а вероятнее всего причина в том кроется, что на жизненном пути встречается очень много одиноких (имеется в виду, одиноких в душе) людей, к коим я отношу и самого себя. Быть может, многим кажется, будто в моём лице они, наконец-то, обрели этакого свояка, которого якобы нутром чуют ещё издали. И как тут ни разубеждай, как ни приводи примеры вроде свойств полюсов магнита – всё бесполезно: слово за слово, и вот очередная душа раскрывается, как цветок на восход солнца, и словесной росой покрываются её нежные лепестки.
Из всех этих наблюдений я сделал нескромный вывод в свою пользу: у меня и в самом деле есть некий дар – притягивать людей, которым не терпится поговорить с молчаливым собеседником, не заплатив за это ни капли душевного раскаяния.
О-о-о, как они все ошибаются!!! Знай только, что бесплатной бывает разве что услуга червя в могиле, тогда б, верно, держали рот на замке, как при встрече с человеком в штатском.



