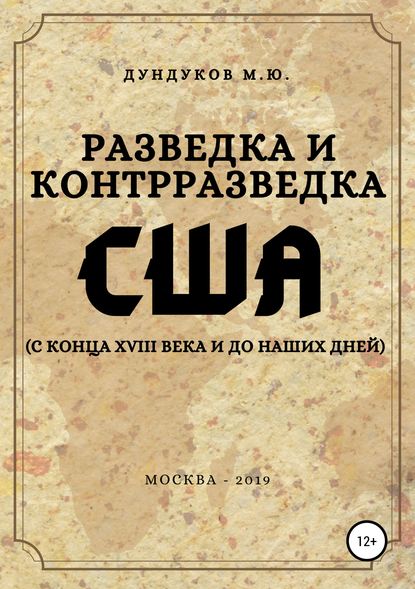 Полная версия
Полная версияРазведка и контрразведка США (с конца XVIII века и до наших дней)
Как и Закон о свободе информации, Закон об охране частной жизни закрепляет за американскими гражданами право потребовать информацию обо всех информационных учетах, ведущихся в федеральных ведомствах, и о наличии в этих учетах относящейся лично к нему информации. В случае отказа ведомства Закон предусматривает возможность обжаловать такой отказ в судебном порядке. То есть формально направленность и дух этого законодательного акта вполне соответствуют тем идеям, которые несколько ранее были закреплены в нескольких редакциях закона о свободе информации.
Однако та часть Закона об охране частной жизни, которая закрепляет изъятия из общих правил, обусловленные интересами обеспечения национальной безопасности США, фактически представляет собой законодательное закрепление гарантий спецслужбам, осуществляющим добывание разведывательной информации через агентов и информаторов разведки. Данный закон, например, устанавливает полный запрет на выдачу по запросам граждан информации, полученной на основании донесений информаторов и агентов; информации, предназначенной для идентификации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также иной информации, важной для проведения следствия, проверки кандидатов на государственную и военную службу973. Согласно этому закону федеральное ведомство также не вправе предоставлять информацию о гражданине каким-либо третьим лицам, иначе как по его запросу или с письменного согласия.
В Законе о свободе информации ограничения на предоставление информации устанавливаются лишь исходя из самой сути информации. В Законе об охране частной жизни ограничение уже относится непосредственно к источнику приобретения информации. Столь жесткие формулировки, причем выделяющие в качестве не подлежащих разглашению не какие-либо категории сведений, а вообще всю ту информацию, которую разведывательные службы приобретают при помощи агентов, фактически можно расценивать не как определенные частные ограничения и изъятия, а как полноценные законодательные гарантии, призванные защитить интересы лиц, сотрудничающих с разведкой, и интересы самой разведки. Естественно, что подобные положения закона в полной мере могут быть отнесены к положениям, формирующим для разведки режим наибольшего благоприятствования в сфере сбора и добывания разведывательной информации.
Примечателен и тот факт, что Закон об охране частной жизни 1974 года, пожалуй, впервые официально признает в законодательном порядке факт использования федеральными ведомствами США агентурного аппарата, причем не как своего рода вспомогательного средства, используемого спецслужбами, а как основного инструмента, посредством которого добывается разведывательная информация и от которого непосредственно зависит эффективность разведывательной деятельности.
Важным дополнением к Закону об охране частной жизни стал принятый в 1988 году Закон об использовании компьютерных систем и защите частной жизни974. Он урегулировал порядок использования федеральными министерствами и ведомствами компьютерных систем и распространил действие положений Закона об охране частной жизни 1974 года на компьютерные программы, информационные массивы и базы данных, содержащие персональные данные американских граждан. На основании закона 1988 года при каждом федеральном министерстве и ведомстве, осуществляющем компьютеризированный учет персональной информации, была создана Комиссия по целостности данных975, которая должна обеспечивать соблюдение положений Закона об охране частной жизни при использовании компьютеризированных систем учета и обработки данных976.
Наряду с таким направлением развития законодательных гарантий деятельности разведки, как включение различных оговорок, изъятий, исключений и запретов в пользу разведки в тексты законодательных актов, изначально принимавшихся с целью ограничения полномочий разведывательных служб, в США интенсивно формируется и специальная законодательная база, призванная защитить интересы разведывательных служб и разведывательной деятельности, обеспечить защиту источников приобретения разведывательной информации. Десятки законодательных норм, рассредоточенных по различным разделам и титулам Свода законов США либо не вошедших в его состав, напрямую или косвенно нацелены на защиту интересов разведывательных служб, осуществляющих сбор и добывание разведывательной информации.
Одним из примеров подобных законодательных актов, непосредственно направленных на защиту интересов разведывательных служб и их деятельности, является принятый в 1982 году Закон о защите установочных данных разведчиков977. Закон установил уголовную ответственность за разглашение установочных данных офицеров разведки, работающих под прикрытием, агентов, информаторов и "источников" разведывательной информации. Под действие данного нормативного акта подпадают как те лица, которым подобные сведения известны по службе, так и те, которые разгласили сведения, непосредственно не известные им по службе, однако приобретенные ими при помощи своего должностного положения. В отдельный пункт выделены действия иных лиц, направленные на выявление и предание гласности сведений о тайных агентах разведки, в том случае, если подобные действия имели целью причинение ущерба интересам внешней разведывательной деятельности Соединенных Штатов978.
В зависимости от того, какие сведения разглашаются лицом (известные ему по службе или полученные путем использования служебного положения), законодатель дифференцирует меру уголовной ответственности. За умышленное разглашение информации, содержащей установочные данные тайного агента, лицом, которому такая информация известна по службе (в соответствии с поправками, внесенными на основании Закона о полномочиях разведки на 2010 финансовый год979), установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет980.
При этом, под "тайным агентом" в законе понимается: 1) сотрудник разведывательного органа или военнослужащий, прикрепленный для работы в разведке (если этот факт является закрытой информацией, или если он проходит службу за пределами США, или проходил ее в течение последних пяти лет); 2) гражданин США, чья связь с разведкой США является закрытой информацией и кто: а) живет и действует за пределами США в качестве агента, информатора или источника оперативной помощи разведывательному органу; b) в момент разоблачения действовал в качестве агента, информатора во внешней контрразведке или во внешнем анититеррористическом подразделении ФБР; с) лицо, не являющееся гражданином США, чья связь с разведкой США (прежняя или настоящая) является закрытой информацией и кто является действующим агентом, информатором или источником оперативной помощи (под термином "информатор" понимается лицо, которое предоставляет информацию разведке в рамках конфиденциальных взаимоотношений, защищающих установочные данные такого лица от раскрытия) 981.
Если лицо с помощью известной ему по службе закрытой информации смогло установить данные, раскрывающие тайного агента, и умышленно разгласить эти данные другому лицу, в этом случае предусмотрена менее суровая санкция – до 10 лет лишения свободы (в редакции закона 1982 года – до 5 лет). Наименьшая ответственность устанавливается законом за разглашение информации лицом, не относящимся к категории должностных лиц, получивших разглашаемые сведения с использованием своих должностных полномочий. В этом случае максимальный срок тюремного заключения не может превышать 3-х лет982.
Достаточно суровые меры уголовной ответственности, предусматриваемые законом за разглашение сведений, повлекшее раскрытие тайных агентов разведки, указывают на осознание американским законодателем весьма высокой степени важности и значимости для государства разведывательной деятельности, а также на его стремление обеспечить надлежащую государственную защиту всего спектра отношений, возникающих в процессе разведывательной деятельности, и, в первую очередь, тех отношений, которые связывают разведку с ее агентами и информаторами – то есть теми лицами, которые, прежде всего. обеспечивают эффективность деятельности разведки на таком ее направлении, как сбор и добывание разведывательной информации.
Примечателен и тот факт, что закон закрепил экстерриториальную юрисдикцию в отношении составов преступлений, закрепленных Законом о защите установочных данных разведчиков 1982 года. Экстерриториальная юрисдикция распространяется как на граждан США, подозреваемых в совершении указанных преступлений и находящихся за пределами Соединенных Штатов, так и на иностранцев, получивших разрешение на постоянное проживание на территории США983.
В связи с анализом законодательства, направленного на создание благоприятных условий для деятельности спецслужб США, нельзя не упомянуть и о тех законодательных актах, которые были призваны защитить разведку от бесконтрольного использования новейших достижений науки и техники в сфере коммуникаций и передачи информации. В 90-е годы традиционные способы защиты интересов разведывательных служб и правоохранительных ведомств путем закрепления различных оговорок и изъятий в законодательстве о свободе информации, законодательных актах, подобных Закону о контроле над преступностью 1968 года984 или Закону о наблюдении за иностранными разведками 1978 года985 уже не всегда оказывались достаточными и адекватными новым условиям. Для обеспечения надлежащего баланса между конституционными свободами граждан США и интересами американских спецслужб необходимы были дополнительные законодательные меры, которые позволили бы более эффективно защищать интересы ведомств, осуществляющих сбор и добывание разведывательной информации.
Серьезно проблемой как для разведки, так и для правоохранительных ведомств США стало развитие систем цифровой телефонной связи, пейджинговой, модемной, факсмодемной и сотовой связи, систем кодирования информации. В рамках существующих законодательных стандартов спецслужбы оказались не в состоянии даже при наличии соответствующих санкций перехватывать и расшифровывать сообщения, отправляемые коммерческими операторами связи, что весьма негативно сказывалось не только на интересах разведывательных служб, добывающих информацию на линиях связи и каналах передачи информации, но и на интересах федеральных ведомств, наделенных правоприменительными функциями. Именно федеральные ведомства, заинтересованные в разведывательной деятельности на информационных каналах (в первую очередь, ФБР, которое одновременно является и ведущим контрразведывательным органом Соединенных Штатов, и крупнейшим федеральным правоохранительным органом), выступили инициаторами принятия Закона о коммуникационной помощи правоприменительным ведомствам 1994 года986.
Данный нормативный акт представляет собой типичный пример законодательной защиты интересов разведывательных служб и иных федеральных ведомств, ведущих сбор и добывание разведывательной информации. По замыслу американских законодателей, Закон о коммуникационной помощи правоприменительным ведомствам призван был восстановить нарушенный паритет между конституционным правом американских граждан на защиту “…личности, жилища, бумаг и имущества”987 и интересами федеральных органов США, действующих в интересах обеспечения правопорядка или обеспечивающих защиту национальной безопасности США.
Примечательно, что Закон устанавливает стандарты не для государственных учреждений, а для частных фирм, оказывающих коммерческие услуги в сфере коммуникации и связи на территории США. Как это напрямую следует из текста Закона о коммуникационной помощи правоприменительным ведомствам, основная его идея – обеспечение беспрепятственного доступа заинтересованных федеральных ведомств к информационным каналам частных операторов связи.
Закон обязал все телекоммуникационные компании, ведущие свою деятельность на территории Соединенных Штатов, сотрудничать с правоприменительными ведомствами и оказывать им помощь в организации прослушивания информационных каналов. Для создания более благоприятных условий перехвата информации, отправляемой по радиоканалам, был значительно сокращен диапазон частот, допустимых к использованию в системах сотовой связи, и установлена обязанность всех телекоммуникационных компаний, работающих на территории США, предоставить в ФБР полную техническую документацию относительно используемых ими принципов пересылки и кодирования информации. В тех случаях, когда используемые компаниями системы связи не позволяют осуществлять надежный перехват информации, Закон обязал телекоммуникационные компании провести необходимую модификацию используемых ими систем с целью обеспечения возможности перехвата отправляемой с помощью этих систем информации988.
Для контроля за исполнением Закона была учреждена Национальная служба телекоммуникации и информации, задачи которой были определены в осуществлении контроля за соблюдением телекоммуникационными компаниями положений закона, а также в реализации учрежденных законом программ. Одной из таких программ является Программа развития систем декодирования информации, на развитие которой из бюджета было выделено четыре миллиона долларов989.
Практические потребности, вызвавшие к жизни процесс развития законодательной базы, формирующей благоприятные для разведывательных служб условия деятельности в сфере сбора и добывания разведывательной информации отличаются определенным своеобразием уже хотя бы в силу тайного характера, который свойственен деятельности разведывательных служб. Вполне естественно, что специфичными особенностями отличаются и законодательные акты, регламентирующие эту скрытую от глаз общественности сторону разведывательной деятельности. Законодательному воздействию подвергается главным образом не административно-организационная сторона деятельности разведывательных служб (этот вопрос, как и прежде, регламентирован в основном ведомственными нормативными актами), а внешняя среда, те внешние отношения, которые возникают между разведкой, с одной стороны, и находящимися в границах юрисдикции США правовыми субъектами (гражданами и организациями), вольно или невольно вступающими в правоотношения с разведкой. Подобная законодательная регламентация может выражаться в различных правовых процедурах: она может предусматривать предписания об оказании содействия спецслужбам (Закон о коммуникационной помощи правоприменительным ведомствам 1994 года); может она выражаться и в установлении мер административной (уголовной) ответственности за причинение ущерба интересам разведывательной деятельности (Закон о защите установочных данных разведчиков 1982 года). Она может выражаться также в различных оговорках, ограничениях и исключениях, закрепляемых в законах, формально призванных ограничивать права спецслужб и защищать права американских граждан (Закон о наблюдении за иностранными разведками 1978 года)
Несмотря на значительное увеличение законодательной составляющей в системе правовых норм, регламентирующих деятельность разведки по сбору и добыванию разведывательной информации, основная роль в урегулировании этого направления разведывательной деятельности по-прежнему принадлежит подзаконным нормативным правовым актам. Однако современные принципы подзаконного нормотворчества на данном участке разведывательной деятельности существенно отличаются от тех принципов, которые исторически были наиболее характерны для регламентации отношений в сфере деятельности разведки по сбору и добыванию разведывательной информации.
Доминирующими подзаконными актами сегодня выступают не внутриведомственные инструкции и директивы руководителей отдельных федеральных ведомств, имеющих собственные разведывательные службы, а акты, издаваемые президентом Соединенных Штатов или высшими должностными лицами (органами) исполнительной власти, которым президент делегировал соответствующие полномочия издавать акты, имеющие силу в рамках всей разведывательной системы США или в рамках какой-либо организационной группы разведывательных органов.
В рамках президентского нормотворчества основная роль принадлежит таким нормативным правовым актам, как исполнительные приказы и директивы президента. Являясь высшими подзаконными нормативными актами, они позволяют, с одной стороны, обеспечивать высокий уровень регламентации отношений, возникающих в процессе сбора и добывания спецслужбами разведывательной информации, с другой стороны (в отличие от законодательных актов, процедура принятия которых обычно затягивается на достаточно длительный срок), позволяют достаточно оперативно реагировать на любые изменения в правовом поле, социально-политической ситуации и оперативной обстановке, в которой приходится действовать разведывательным службам.
Современные ведомственные инструкции в значительной мере призваны лишь детализировать применительно к конкретному разведывательному органу те унифицированные требования и стандарты, которые закрепляются в актах президента, директора национальной разведки, министра обороны США (в основном для разведывательных служб министерства обороны, решающих разведывательные задачи лишь в рамках самого министерства). Высшие же подзаконные нормативные правовые акты сегодня призваны не только закреплять унифицированные стандарты и требования к деятельности разведывательных служб по сбору и добыванию разведывательной информации, но и, в первую очередь, должны обеспечивать согласованную работу всей системы разведывательных органов Соединенных Штатов. Именно поэтому, согласно сложившейся в последние годы практике, основные концептуальные положения, определяющие полномочия отдельных разведывательных служб (не только применительно к вопросам сбора и добывания разведывательной информации), инкорпорируются в издаваемых американскими президентами исполнительных приказах по вопросам разведки (ныне действующий приказ – исполнительный приказ президента Рейгана № 12333990).
3.7. Расширение полномочий спецслужб после событий 11 сентября 2001 года
Установленные Законом о наблюдении за иностранными разведками 1978 года правовые рамки, регламентирующие порядок осуществления электронного наблюдения разведывательными службами США оказались достаточно устойчивыми во времени. Вплоть до начала XXI Закон о наблюдении за иностранными разведками действовал практически в неизменном виде991. Оформившийся в 1978 году баланс между интересами защиты прав и свобод граждан и потребностью спецслужб эффективно добывать разведывательную информацию устраивал как американское общество, так и федеральное правительство США.
Ситуация кардинально изменилась после событий 11 сентября 2001 года, когда США столкнулись с новой глобальной угрозой терроризма. Перед лицом этой угрозы существовавшие на тот момент правовые стандарты, регламентирующие порядок добывания спецслужбами разведывательной информации оказались недостаточно эффективными.
Конечно, утверждать, что сама по себе угроза со стороны международного терроризма возникла в США в сентябре 2001 года в корне неверно. С терроризмом США сталкивались еще в начале XX века992. На каждом историческом этапе американский законодатель формировал антитеррористическое законодательство сообразно характеру и степени террористической угрозы993. Но с точки зрения правовых стандартов, применявшихся при сборе и добывании разведывательной информации нужно отметить, что к 2001 году в США в случаях, связанных с терроризмом, фактически применялись правовые стандарты, аналогичные тем, которые применялись при проведении общеуголовных расследований994. Те дополнительные правовые рычаги, которыми разведывательные службы наделял Закон о наблюдении за иностранными разведками 1978 года, в антитеррористических расследованиях могли быть задействованы лишь в тех случаях, когда могла быть доказана связь с "внешней враждебной силой" в лице агентов иностранных держав.
Принятый непосредственно вслед за событиями 11 сентября 2001 года Закон "о патриотизме"995 серьезным образом расширил права спецслужб в сфере добывания разведывательной информации при помощи электронного наблюдения, внеся многочисленные поправки в Закон о наблюдении за иностранными разведками 1978 года и существенно сместив сложившийся баланс между правами и свободами граждан и интересами спецслужб в пользу интересов спецслужб. Изменения, внесенные в Закон о наблюдении за иностранными разведками на основании Закона "о патриотизме" вызвали весьма заметную трансформацию сущности данного закона. Несмотря на то, что изначально закон предназначался для осуществления электронного наблюдения за агентами иностранных держав, то есть фактически должен был использоваться в отношении иностранных граждан в интересах разведывательной и контрразведывательной деятельности, поправки 2001 года фактически позволили применять закрепленные в законе нормы также и в отношении американских граждан.
Кроме того, за счет расширения целей, для реализации которых могло санкционироваться электронное наблюдение, de facto были стерты границы между добыванием разведывательной информации, осуществляемой разведывательными службами в интересах обеспечения национальной безопасности и правоохранительными расследованиями, осуществляемыми полицейскими службами. Так например, любую информацию, добытую спецслужбами в соответствии с Законом о наблюдении за иностранными разведками 1978 года как разведывательную информацию, стало возможным передавать представителям правоохранительных органов в целях противодействия международному терроризму, распространению оружия массового поражения, актам саботажа, тайной разведывательной деятельности агентов зарубежных держав996.
На основании Закона "о патриотизме" в Закон о наблюдении за иностранными разведками 1978 года и иные акты, регламентирующие порядок добывания разведывательной информации, было внесено также множество менее значимых изменений. Существенно были увеличены сроки, которые отводились законом на проведения различных оперативно-технических мероприятий. Так например, максимальный срок, на который мог выдаваться ордер на обыск был увеличен с 45 до 90 дней, а случае, когда он направлен против агента иностранной державы – до 120 дней997. Было увеличено число судей специального суда, отвечающего за выдачу санкций на проведение электронного наблюдения до 11 человек, причем по меньшей мере трое судей из числа назначенных в состав суда должны проживать не далее, чем в 20 милях от федерального округа Колумбия998.
Отдельного внимания заслуживает та юридическая виртуозность с которой закреплялись новые права спецслужб при помощи лаконичных и двоякотолкуемых фраз, растворенных в сотнях страниц малозначимых дополнений и поправок к законам. Например, статья 215 Закона о патриотизме изменив редакцию статьи 501 Закона о наблюдении за иностранными разведками 1978 года, наделила директора ФБР (либо лиц, назначенных директором) правом обращаться за ордером в специальный суд, уполномоченный выдавать судебные ордера на использование средств электронного наблюдения999. Получив такой ордер, ФБР приобретало право добывать информацию или документы, необходимые для проведения расследований, направленных на защиту от международного терроризма или тайной разведывательной деятельности, не нарушая при этом прав (это особо оговаривается в законе) защищенных Первой поправкой Конституции США.
На первый взгляд, подобная норма не содержит положений, которые бы позволили разведывательным службам злоупотреблять своими правами. Однако, как выяснилось через несколько лет, именно на весьма своеобразном толковании спецслужбами этих положениях статьи 215 Закона о патриотизме строилась с 2001 года вся глобальная система фиксации телефонных переговоров американских граждан на всей территории США.
Информация о массовых нарушениях закона со стороны спецслужб при осуществлении электронного наблюдения стала достоянием общественности после того, как популярная американская газета "The New York Times" опубликовала в 2005 году разоблачительную статью на основе оказавшихся в распоряжении редакции газеты секретных материалов. Добытые газетчиками факты доказывали, что АНБ и другие разведывательные службы США с 2001 года осуществляли электронное наблюдение не получая на это никакой судебной санкции1000.
Уже спустя много лет после этого, в декабре 2013 года, директором национальной разведки было признано, что, еще 4 октября 2001 года (за 22 дня до вступления Закона «о патриотизме» в силу!), детализируя законодательные положения (еще не принятого Конгрессом закона), президент Дж. Буш (младший) издал секретную директиву, наделившую АНБ правом вести сбор неперсонифицированной информации, передаваемой при помощи телефонии и интернета1001.
Президентская директива выделила два отдельных направления деятельности АНБ в данной сфере:
1) по сбору информации на международных линиях коммуникации (деятельность на этом направлении более известна под названием «Программа электронного наблюдения за террористами» (Terrorist Surveillance Program).
2) по сбору информации на коммуникационных линиях США. Для получения необходимой информации АНБ запрашивало у телефонных компаний детальные записи всех телефонных переговоров, которые в обезличенном виде должны складироваться в АНБ в виде общей базы данных, из которой АНБ формально было не вправе извлекать персонализированные сведение о конкретных лицах1002.



