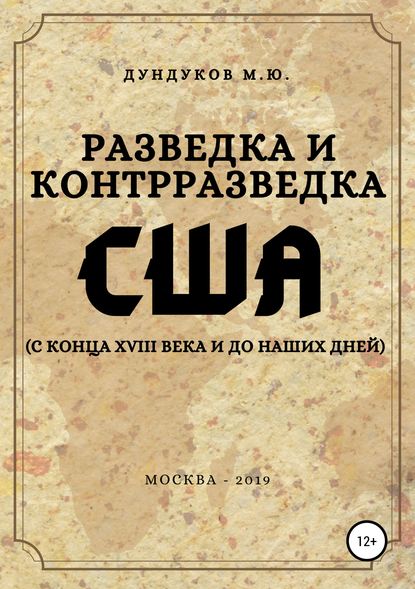 Полная версия
Полная версияРазведка и контрразведка США (с конца XVIII века и до наших дней)
Решением этой задачи преимущественно занимаются законодательная и судебная ветви власти. Именно поэтому в США большинство норм, направленных на ограничение прав спецслужб и на регламентацию деятельности разведки в сфере сбора и добывания разведывательной информации, закреплено в федеральных законодательных актах и в решениях федеральных судов различного уровня.
Несмотря на внешнюю противопоставленность двух обозначенных задач, в совокупности они составляют единую глобальную проблему правового регулирования деятельности разведки – проблему определения оптимального соотношения между интересами разведки и интересами защиты прав и свобод граждан. В этой связи эффективной систему правового регулирования разведывательной деятельности (в первую очередь, в сфере сбора и добывания разведывательной информации) можно считать лишь в том случае, если в нормативно-правовых актах, формирующих эту систему, достаточно успешно решен вопрос о надлежащем балансе между правовой защитой конституционных прав и свобод граждан и правовым обеспечением интересов разведывательных служб, ведущих сбор и добывание разведывательной информации.
3.2. Первые правовые стандарты в сфере сбора и добывания разведывательной информации в США
Вплоть до окончания первой мировой войны в США напрямую не поднимался вопрос о необходимости разработки правовых ограничений деятельности спецслужб, направленной на добывание разведывательной информации. Масштабы подобной деятельности были достаточно незначительны, и основную часть своей работы молодые американские спецслужбы проводили за пределами территориальной юрисдикции Соединенных Штатов.
Косвенно, все же, проблема допустимости добывания правоохранительными органами и спецслужбами информации на линиях связи была затронута в принятом в 1912 году Законе о регулировании радиокоммуникаций915. Сфера регламентируемых данным законом отношений касалась только вопросов передачи информации при помощи радиосвязи. Однако, категорическая позиция законодателя, не только не допускающего разглашения передаваемых по радио сведений без разрешения адресата (либо без соответствующей судебной санкции), но и устанавливающего за подобные неправомерные действия уголовную ответственность (до 3-х месяцев тюремного заключения) достаточно показательна. Она демонстрирует тот факт, что в момент становления разведывательных служб коллизию интересов между правами и свободами американских граждан и потребностями спецслужб в добывании разведывательной информации американский законодатель склонен был разрешать исключительно в интересах граждан.
Однако, запретительные нормы, закрепленные Законом о регулировании радиокоммуникаций 1912 года относились к достаточно узкому кругу отношений. В целом же проблема добывания разведывательной информации законодательно не была урегулирована. Поэтому, когда в конце 20-х – начале 30-х годов в ряде судебных дел, рассмотренных в этот период Верховным Судом США, был поднят вопрос о правомерности прослушивания телефонных переговоров американских граждан, судебная власть не смогла вынести однозначного суждения по вопросу как о самой допустимости прослушивания телефонных и иных переговоров, так и относительно тех условий, при которых правоохранительные органы и спецслужбы вправе прибегать к указанным способам добывания информации. Не только нижестоящие суды, но даже Верховный Суд США подчас высказывал взаимоисключающие друг друга суждения, не определив своего однозначного отношения к этой проблеме916.
Коллизию между интересами спецслужб, стремящихся любыми средствами добыть необходимую им информацию, и Четвертой поправкой Конституции Соединенных Штатов, закрепляющей неприкосновенность "…личности, жилища, бумаг и имущества"917 американских граждан весьма своеобразным образом разрешил Закон о коммуникациях 1934 года918. В отличие от судебной власти США, достаточно непоследовательно разрешавшей указанное противоречие, американский законодатель совершенно недвусмысленно выразил свое отношение к данной проблеме, фактически введя запрет на любые акции, связанные с прослушиванием телефонных переговоров американских граждан, если подобное действия не осуществлялись по добровольному согласию участвовавших в разговоре лиц, либо не были санкционированы судом, наделенным соответствующими полномочиями919. Несложно заметить, что Закон о коммуникациях 1934 года фактически повторил те положения, которые содержал Закон о регулировании радиокоммуникаций 1912 года, экстраполировав его запретительные нормы, касавшиеся радиокоммуникаций, на все формы коммуникаций.
Принимая во внимание проблематичность оперативного получения судебных санкций, уполномочивающих спецслужбу или правоохранительный орган на осуществление прослушивания телефонных переговоров, несложно сделать вывод относительно того, что процедура получения подобных санкций, закрепленная в законе вряд ли была востребована в практической деятельности американских спецслужб в 30-е годы.
Фактический, законодательный запрет собирать разведывательную информацию на линиях коммуникации в корне противоречил реально складывающейся исторической ситуации и заведомо не мог носить долговременного характера. Политика "Нового курса" Франклина Д. Рузвельта предусматривала весьма существенное усиление как разведывательных служб, так и федеральных правоохранительных органов, которое выражалось в том числе и в весьма существенном расширении компетенции указанных структур. На стороне разведывательных служб, которые не могли эффективно добывать информация в рамках запретительных стандартов, установленных Законом о коммуникациях 1934 года, выступила судебная власть, которая сочла допустимым принимать как полноценные доказательства в судебном процессе сведения, полученные в результате прослушивания (естественно, осуществлявшегося без какой-либо судебной санкции).
В судебном решении по делу Nardone v. United States Верховный Суд признал запрет на прослушивание телефонных переговоров без судебной санкции в тех случаях, когда пересекается граница штата, не относящимся к федеральному правительству и его органам920. Логика суда, рассудившего, что если Закон о коммуникациях 1934 года именно на федеральное правительство возлагает ответственность за организацию коммуникаций на территории США, то содержащиеся в законе запреты не могут трактоваться как относящиеся к федеральному правительству или его подразделениям, конечно небесспорна. Но подобная благосклонность судебной власти весьма точно отражала потребности времени, когда накануне начала Второй мировой войны требовалось пожертвовать определенной частью прав и свобод граждан в интересах усиления государства и повышения способности государственных служб противостоять надвигавшейся угрозе921.
В 1940 году была предпринята попытка законодательно закрепить фактически уже изменившийся в пользу спецслужб баланс между необходимостью защиты конституционных прав и свобод граждан и интересами национальной безопасности, предоставив разведывательным и контрразведывательным службам более широкие права по добыванию разведывательных сведений путем перехвата телефонных, телеграфных и любых иных сообщений. На рассмотрение в Конгресс был внесен законопроект, предполагавший наделение спецслужб и правоохранительных органов правом осуществления перехвата телефонных и телеграфных сообщений не только на основании судебной санкции, но и на основании решения руководителя соответствующего федерального министерства, спецслужба которого осуществляла данные действия922.
Законопроект не стал законом. На период участия США во Второй мировой войне сама проблема законодательного расширения прав спецслужб в сфере сбора и добывания разведывательной информации оказалась неактуальной. Дело в том, что статья 606 Закона о коммуникациях 1934 года наделяла президента США в период нахождения США в состоянии войны чрезвычайными полномочиями в сфере управления коммуникациями923. Фактически, в военный период регулирование всех вопросов, связанных с коммуникациями (в том числе и с добыванием спецслужбами информации на каналах связи) осуществлялась на основании распоряжений президента, скорее стремившегося расширить права разведывательных и контрразведывательных служб в сфере сбора и добывания разведывательной информации, нежели установить для них какие-то ограничения.
По сути дела, вне каких-либо законодательных ограничений в сфере сбора и добывания разведывательной информации американская разведка и контрразведка действовала и после окончания Второй мировой войны. Та часть деятельности разведывательных и контрразведывательных служб, которая была направлена на сбор и добывания разведывательной информации об иностранцах традиционно находится вне сферы конституционных гарантий, распространяемых лишь на американских граждан.
Что же касается граждан США, неприкосновенность личности жилища и имущества которых защищена Четвертой поправкой Конституции США, то здесь весьма на руку американским спецслужбам оказалась антикоммунистическая истерия 50-х годов. В Законе о внутренней безопасности 1950 года любая деятельность, связанная с деятельностью мирового коммунистического движения, совершенно недвусмысленно объявлялась внешней враждебной деятельностью924. Соответственно никакие конституционные гарантии на участников подобной деятельности распространяться не могли. Примечательно, что в 50-е годы XX века Верховный Суд США полностью поддерживал подобную логику. В деле Pennsylvania v. Nelson Верховный Суд США признал, что расследования ФБР в сфере внутренней безопасности являются “…частью всеобъемлющей программы противодействия различным формам тоталитарной агрессии”925.
Традиционно американские спецслужбы крайне вольно толковали причастность к "мировому коммунистическому движению". Так ФБР, реализуя в 50-е и 60-е годы свою контрразведывательную программу Cointelpro, официально направленную на борьбу с внешней враждебной по отношения к США деятельностью, боролось с Ку Клукс Кланом, черными националистами и даже противниками войны во Вьетнаме926.
3.3. Закон о контроле над преступностью 1968 года
Новые подходы к принципам правового регулирования деятельности спецслужб, направленной на сбор и добывание разведывательной информации, постепенно начали складываться со второй половины 60-х годов. Потепление международного климата, неудачи американской армии во Вьетнаме, громкие провалы спецслужб, связанные с полным пренебрежением ими конституционными правами и свободами американских граждан, выразились в весьма резкой смене общественных настроений в США. Новая историческая ситуация с неизбежностью требовала ужесточения ограничительных норм, регламентирующих добывание спецслужбами разведывательной информации.
Перемены в обществе катализировали весьма активную законотворческую деятельность Конгресса США, который за исторически достаточно непродолжительный промежуток времени принял ряд важных законов, весьма скрупулезно регламентирующих вопросы практической деятельности американских спецслужб, и, в первую очередь, деятельности, направленной на сбор и добывание разведывательной информации на территории США. В этот период было принято несколько законодательных актов, которые по сей день (с учетом ряда поправок и дополнений) определяют ограничительные стандарты деятельности разведки в сфере сбора и добывания информации.
Первым из этой группы законов стал Закон о контроле над преступностью 1968 года927. Данный законодательный акт полностью пересмотрел нормативные требования, на которых основывалась деятельность разведывательных и контрразведывательных служб, добывающих информацию при помощи различных технических средств. В титуле третьем закона “Прослушивание проводных средств коммуникации928 и электронное наблюдение” установлены требования, предъявляемые к федеральным ведомствам, наделенным правоприменительными полномочиями, либо добывающим информацию в разведывательных или контрразведывательных интересах.
По общему правилу Закон о контроле над преступностью 1968 года предписывает обязательное санкционирование судебным органом любых следственных мероприятий либо мероприятий, направленных на добывание разведывательной информации, если при этом возникает угроза нарушения конституционных прав и свобод американских граждан. Статья 801 закона устанавливает обязательную судебную санкцию для проведения любого вида электронного наблюдения “… с тем, чтобы предохранить частную жизнь невиновных лиц, перехват сообщений, передаваемых с помощью телефонной и телеграфной связи и с помощью вербальной коммуникации, когда ни одна из сторон, участвующих в общении, не давала согласия на перехват информации, может быть осуществлен только с разрешения суда и должен оставаться под судебным контролем в период своего осуществления”. 929.
Однако, несмотря на категоричность подобных положений, Закон допускал некоторые изъятия из общего правила. В статье 2511(3) были определены права президента Соединенных Штатов санкционировать электронное наблюдение при защите национальной безопасности США от внешних посягательств: ”Ничто, содержащееся в этой главе …, не должно ограничивать власть Президента принимать такие меры, которые он сочтет необходимым для защиты нации от реальных или потенциальных угроз, других враждебных действий иностранных держав для получения внешней контрразведывательной или разведывательной информации, имеющей значение для защиты национальной безопасности США, или защиты информации, необходимой для защиты национальной безопасности от деятельности иностранных разведок”930.
Столь же существенные исключения были сделаны и в отношении права президента принимать все необходимые меры для защиты США от “внутренней угрозы”: “Ничто, содержащееся в данном титуле, не должно ограничивать конституционного права Президента принимать такие меры, которые он найдет необходимыми для защиты Соединенных Штатов от свержения Правительства при помощи силы, или других противоправных средств, или против любых других явных и наличных угроз целостности или существованию Правительства Соединенных Штатов”931.
Несмотря на то, что Закон о контроле над преступностью 1968 года фактически представляет собою первую в США законодательную попытку установить баланс между интересами защиты конституционных прав и свобод американских граждан и интересами обеспечения безопасности государства, этим законом были обозначены лишь общие критерии и подходы к решению проблемы. Закон не проводит четкой границы между так называемыми “общими случаями” и “случаями национальной безопасности”.
В весьма неопределенной форме регламентировал данный законодательный акт и санкционирование оперативно-технических мероприятий, проводимых спецслужбами в целях добывания разведывательной информации. С одной стороны, в Законе о контроле над преступностью оговорена возможность изъятия из общих правил в случаях, связанных с обеспечением национальной безопасности США, с другой стороны, Закон предусматривает обязательность судебной санкции вне зависимости от тех целей, которые преследуются при осуществлении электронного наблюдения. Причем, подобная санкция должна была выдаваться судом общей юрисдикции, что явно не способствовало поддержанию должного режима секретности при проведении электронного наблюдения в разведывательных целях.
Подобные, с одной стороны, расплывчатость, с другой – категоричность формулировок не могли не выразиться в определенных затруднениях при практической реализации закона. Например, достаточно спорным выглядел вопрос о правомерности внесудебной санкции на оперативно-технические мероприятия, связанные с добыванием разведывательной информации в интересах внутренней безопасности. С одной стороны, эти случаи безусловно должны квалифицироваться как связанные с обеспечением национальной безопасности, с другой – любые интрузивные акции в отношении американских граждан не должны противоречить нормам Конституции США. Как правило, подобные противоречия в интерпретации закона (в отношении которых подчас диаметрально противоположные точки зрения высказывались должностными лицами исполнительной вертикали власти и представителями различных правозащитных организаций) разрешались лишь судебной властью, причем в ряде случаев окончательное решение приходилось принимать Верховному суду США.
Примечательно, что именно высшая судебная инстанция США в наибольшей мере продемонстрировала склонность разрешать противоречия между гражданскими правами и интересами национальной безопасности в пользу интересов национальной безопасности. Например, пересматривая в 1972 году решение нижестоящего суда, признавшего неправомерной практику использования Федеральным бюро расследований США технических средств для добывания разведывательных сведений по вопросам внутренней безопасности, на том основании, что подобная деятельность осуществлялась ФБР без судебной санкции, Верховный суд США в деле Keith932 в полной мере поддержал позицию исполнительной ветви власти, инициировавшей пересмотр дела. При этом высшая судебная инстанция США непосредственно указала на тот факт, что расследования по вопросам внутренней безопасности не только могут, но и должны существенно отличаться от расследований, проводимых по делам об общеуголовных преступлениях.
Верховный Суд доказал, что, поскольку оперативные мероприятия при проведении политического сыска имеют своей целью “предотвращение противоправной деятельности”, их характер может быть не так детально регламентирован, как в случаях с общеуголовными преступлениями. Верховный Суд пошел дальше и предложил Конгрессу принять более гибкие стандарты для получения санкции суда при ведении политического сыска по сравнению с криминальными расследованиями, и что положения, заложенные в Четвертой поправке, могут варьироваться, поскольку это будет необходимо как для легитимизации потребностей Федерального правительства в оперативной информации, так и для защиты прав американских граждан.933.
Верховный суд в деле Keith не подверг сомнению саму необходимость судебной санкции на использование оперативно-технических средств в расследованиях по внутренней безопасности, тем не менее признал при этом, что законодательство позволяет проводить подобные мероприятия и без решения суда934 в тех случаях, когда в деле фигурируют агенты иностранных государств. Суд определенным образом отказался выразить свое мнение в вопросе о том, является ли необходимой судебная санкция в тех случаях, когда в деле хотя непосредственно и не фигурируют иностранные агенты, однако имеется сотрудничество различной степени между внутренними противоправными группами или организациями и агентами или спецслужбами иностранных государств. Тем не менее вынесенное Верховным судом по делу Keith определение безусловно подразумевало тот факт, и проводимое без судебной санкции оперативное наблюдение "может быть конституционным".
Несмотря на те сложности, которые возникали в процессе практического применения положений Закона о контроле над преступностью 1968 года, следует признать, что основным недостатком этого закона (оценивая его через призму интересов национальной безопасности США) была отнюдь не расплывчатость формулировок и не категоричность некоторых предписаний закона. Исполнительная власть весьма успешно истолковывала его положения в интересах служб и ведомств, занимающихся добыванием разведывательной информации, более сложные разночтения в формулировках закона толковались в решениях федеральных судов различного уровня.
С позиций толкования закона неустранимым был другой принципиальный недостаток данного законодательного акта – отсутствие четкого разграничения между нормативными стандартами, установленными для правоохранительных структур, ведущих сбор и добывание информации в целях привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении американских законов, и требованиями, предъявляемыми к разведывательным службам, в том числе осуществляющим добывание информации в интересах внешней разведывательной деятельности.
3.4. Закон о наблюдении за иностранными разведками 1978 года
В значительной мере указанные противоречия, изначально заложенные в положениях Закона о контроле над преступностью 1968 года, были разрешены в Законе о наблюдении за иностранными разведками, который был принят Конгрессом в 1978 году935. В отличие от Закона 1968 года данный законодательный акт изначально позиционировался как нормативный акт, регламентирующий порядок использования оперативно-технических средств в процессе добывания спецслужбами информации в интересах обеспечения национальной безопасности.
Основная сфера регулируемых Законом 1978 года отношений – нормативная регламентация электронного наблюдения, осуществляемого спецслужбами в целях получения внешней разведывательной информации. Под электронным наблюдением в Законе понимается получение информации из необщественных коммуникационных систем при помощи электронных средств без согласия лиц, участвующих в процессе коммуникации, либо без согласия лиц, реально присутствующих при процессе коммуникации (когда коммуникация осуществляется без использования электронных средств коммуникации).
Закон развивал положения, закрепленные в Законе о контроле за преступностью от 1968 года, и дополнял их положениями тезисов, сформулированных в 1972 году Верховным Судом в деле Keith936. Законом о наблюдении за иностранными разведками было предусмотрено два возможных варианта осуществления электронного наблюдения – на основании судебного ордера и с санкции генерального атторнея. Судебный ордер на проведение электронного наблюдения, согласно закону, необходим в тех случаях, “… когда одной из сторон является гражданин США, или когда нужно использовать полученную информацию в качестве судебного доказательства”937. Вопрос о выдаче судебного ордера должен решать специально создаваемый для этой цели суд, формируемый председателем Верховного суда США из числа федеральных судей938.
Процедура получения судебного ордера предписывает должностному лицу федерального ведомства составить заявление на имя судьи. В заявлении должны указываться “… цель, место, время и средства проведения наблюдения, а также другие детали”. После заверения заявления у руководителя ведомства заявление отправляется к генеральному атторнею, а от него – к судье. Судья может либо издать ордер, санкционирующий электронное наблюдение, либо, если сочтет, что представленные основания недостаточны для выдачи ордера, отказать в выдаче ордера. В соответствии с законом судья должен определить: 1) составлено ли заявление в соответствии с требованиями закона; 2) каковы основания предполагать, что объектом наблюдения будет выступать иностранная держава или объект иностранной державы; 3) действительно ли место и строение, на которое будет направлено наблюдение, используется иностранной державой или агентом иностранной державы. 939.
Внесудебная санкция на проведение электронного наблюдения допускается в тех случаях, когда "не предполагается" осуществление наблюдения в отношении американских граждан и не планируется использование полученных результатов в судебном процессе. Санкционировать электронное наблюдение в этом случае должен генеральный атторней, на которого и возлагается ответственность за соблюдение предписаний закона при выдаче санкции.
Несмотря на значительное упрощение процедуры по сравнению с санкционированием электронного наблюдения судом, Закон о наблюдении за иностранными разведками определил достаточно жесткие условия, при соблюдении которых допускалась внесудебная санкция на проведение электронного наблюдения.
При выдаче разрешения на операцию генеральный атторней должен был в письменной форме подтвердить, что:
1) наблюдение направлено: а) исключительно на перехват сообщения, переданного с помощью средств связи, используемых иностранными державами; б) информация приобретается не с помощью перехвата вербальных средств связи, а в результате наблюдения за собственностью или недвижимостью, находящимися под открытым контролем иностранной державы;
2) минимальна вероятность того, что в результате наблюдения будет перехвачено сообщение, отправителем или получателем которого является гражданин США;
3) приняты все меры для сведения к минимуму риска, что перехваченная информация (если она была отправлена или предназначалась гражданину США) будет в нарушение закона оглашена940.
Контроль за правомерностью выдачи внесудебных санкций на осуществление электронного наблюдения Закон возложил на разведывательные комитеты верхней и нижней палат Конгресса, которым генеральный атторней обязан предоставлять исчерпывающую информацию о запланированной акции по меньшей мере за тридцать дней до ее начала. В случаях, когда ситуация требовала немедленных действий, глава министерства юстиции должен уведомить комитеты о фактическом начале акции и о причинах нарушения общего порядка941.



