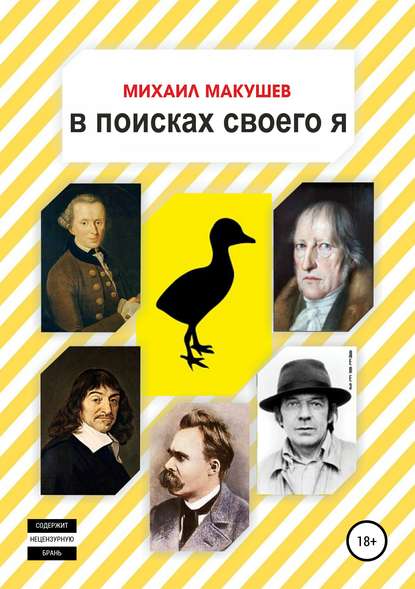 Полная версия
Полная версияВ поисках своего я
Они являются средствами самовыражения Нарцисса. Грудной младенец замечает связь, оказываясь в сухих пелёнках вместо мокрых, когда поплачет, начинает использовать средства эмоционального выражения акцентированно. Эмоции – конкретное начало сознания, и первое средство описания всех доступных ощущений. Интенсивность – случайное обстоятельство, почти что-то «внешнее». Это, конечно, – форма созерцания – внешнее. Эмоции отличает от мыслей их скачкообразное изменение, именно интенсивность. Её с полным правом можно считать присущностью эмоций, реагирующих на воздействие чистой материи с необходимой степью активности.
Между полюсами эмоций идёт борьба за то, что чувствовать. Наша культура осуждает эгоистическое поведение, например, и ощущения наделяет знаком от дискурса. Эмоции борются и с дискурсом за свою активность. Смысл, который приходит первым, опять не знает масштабов применения. Не в последнюю очередь, благодаря этому, всё запутано, но слова Ницше, что «инструмент познания не может познать самого себя», поставили бы крест на нашей попытке понять, что такое «я», если бы не этот смысл, который приходит первым… Он позволяет это заявление активно игнорировать, как представляющее здравый смысл. Пусть Нарцисс не может познать себя, способен только слепо отождествиться с «я», но я отождествиться уже не могу с Нарциссом. Познание начинается с этого несовпадения. Зеркальные совпадения позволяют продолжать познавать себя с поправкой на изменение правого на левое. Например, множественная личность Хаббарда, как мы знаем, – драматизация вэйлансов – и возникает на основе жизненного опыта. Опыт обусловлен. Множественная личность со всей очевидностью тоже обусловлена, а зеркально из этого вытекает, что безусловным смыслом обладает что-то противоположное множественной личности, единичное и не пользующееся опытом. Выводы Канта подтверждаются зеркально выводами Хаббрада.
Простой смысл преодолевает тоску, расколов её на бесконечность ощущений. Смысл тоски становится зеркальным и смешивается с самим собой. Материал для восприятия поставляют ощущения. Их бесконечность сводится к пяти чувствам, и простой смысл снова начинает упорядочиваться. Наши чувства – равновесие, осязание, обоняние, слух, зрение – представляют собой более высокий уровень операционной системы, чем ощущения. Кто-то выделяет ещё чувство вкуса, но тогда следует выделить и ощущения на коже, и половые ощущения в отдельные чувства. На самом деле, это – одно и то же осязание, распределенное по всему телу и включающее в себя внутренние ощущения. Оно находится в основании жизненных процессов ещё у червей.
Пять чувств – классическая схема. Шестое чувство, как известно, название интуиции, но, по профессору Савельеву, у нас больше чувств, по крайней мере, органов чувств. Отдельный орган регистрирует прямое ускорение, отдельный орган – угловое ускорение. Скорей всего, профессор прав, но мы остановимся на классической схеме: она возникла не на пустом месте. Прямое и угловое ускорение можно отнести к чувству равновесия. Это, конечно, слабый аргумент против большего количества у нас чувств. равновесие включает в себя вообще все чувства, которые традиционно и не относятся к нему. Если закрыть глаза, например, и встать на одну ногу, это будет понятно в связи со зрением. Стоя на одной ноге с открытыми глазами, легче удерживать равновесие. Также всем известны проблемы с равновесием у пьяных: если два стакана самогона – обезболивающее средство при операциях в полевых условиях, то алкоголь влияет на осязание… Резкая моторика характерна для глухонемых и оглохших. Это тоже проблема равновесия. Если вы не слышали или забыли, как зовут ваших соседей по лестничной клетке, при встрече с ними будет, как будто, вата в ушах, а здороваться всё равно надо, как раз равновесие незаметно и нарушается. Обоняние вообще радикально действует на равновесие. Как вам запах большого количества тухлой рыбы? Ещё есть аллергия на запахи.
Итак, что-то простое сначала расщепилось на Надежду на бессмертие и волю к смерти, вытянулось в постоянное ощущение тоски, потом тоска обрела дискретность, раздробившись на бесконечность ощущений. Тем самым тоска «преодолела» себя, а теперь упорядочивается пятью чувствами и начинает собираться в равновесие, – опять какую-то простую единицу, но уже на новом витке развития. Ощущения и чувства – это начало операционной системы. Кроме равновесия, чувства собирает в некий фокус ещё внимание, и получается, что наши чувства обобщаются дважды Равновесие и внимание обобщает чувства: – это может быть местом встречи Нарцисса, каким он сложился в процессе жизни, и искомого «я».
Если вы смотрите, как пара танцует танго, то, скорей всего, смотрите на одного из партнёров. Я, например, смотрю на танцорку. Мужчина рядом с ней мне только виден. Моё чувство зрения воспринимает его. Если бы я совсем не воспринимал танцора, моё равновесия было бы встревожено. Тем не менее, разделить внимание и восприятие мы можем. Между ними есть «зазор».
К чувству равновесия следует отнести осанку при походке и мимику лица. Они с большими затруднениями контролируются вниманием. Это – не его сфера… Если Нарцисс обретает единство в равновесии и тождестве, то «я», без сомнения, проявляет себя в различениях, но разграничение между Нарциссом и «я» однозначно не проводится. Спутанность будет являться на каждом шагу. Ни в теле и его равновесии, ни в операционной системе нет места, где бы Нарцисс и «я» не присутствовали вместе, как активное и пассивное. Активное «резвится» на пассивном, путая формы активности и пассивности. Пассивное надевает маски активности… Формы созерцания будут путать нас.
Внимание – центр логических операций, точка сборки операционной системы. Рассудок – окружность этой точки, а разум ещё один внешний круг. Окружность и внешний круг – это опять формы созерцания и источник запутанности… но, можно сказать, что рассудок сводит восприятие к окончательному, а разум делает снова бесконечными его различения… Внимание неотделимо от памяти, и память избирательна, как и внимание.
Я помню далеко не всё, что со мной происходило в жизни, только кое-что в памяти засело. Уже сорок лет нет кинотеатра, в котором я в первый раз в жизни посмотрел фильм «Двенадцать стульев». Зачем я помню слова именно этого показа: «Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень!». Я даже помню, что сидел где-то в середине партера… эти слова были не важны для моей жизни. Множество более важных слов я забыл и до сих пор пропускаю мимо ушей, а эти привлекли моё внимание и остались в памяти. Они были бессовестными. Киса Воробьянинов, конечно не девочка, но, в исполнении Сергея Филиппова, и не «шустрый такой мальчишка».
Может, это совесть выбирает, что мне помнить? Я помню, как в том же кинотеатре смотрел фильм с молоденьким Адриано Челентано до 16-ти лет через вентиляционную дырку в крыше кинотеатра бесплатно и совершенно не по праву – был бессовестным. Память бесстрастно фиксирует и мою, и чужую бессовестность. Не сама же память выбирает, что ей помнить?
«Вообще-то нет такой штуки память… это процесс, при котором мозг меняется, происходят изменения в силе синапсов, рост дендридных шипиков и происходят химические изменения, которые усиливают одни нейронные сети в ущерб другим. Эти изменения происходят по всему объему мозга». Кто меняет мозг по всему объёму? Он точно тот, кто нам нужен…
Можно подумать, что внимание выбирает, что мне помнить, а совесть уже сидит в нём, но это будет о Нарциссе. Его сознание не является своей причиной, само может осознаваться, фиксироваться памятью, если привлечено внимание. Сознание Нарцисса – процесс пассивный.
Всё в мышлении запутано. Внимание производит отбор, что следует воспринимать, а сознание уже сидит в нём, но возникло позже внимания, пройдя процесс становления и продолжая проходить… Пусть внимание привлекли ярко накрашенные губы. Оно схватило их, всё, что было рядом, тоже схвачено. Сил у того, кто это сделал, немеряно. По идее, схватывается всё, что перед глазами. Прохожие идут мимо, я воспринимаю их зрением, которое связано с чувством равновесия, но фон эмоций слишком слабенький, процесс не достигает внимания и памяти. Шёл бы навстречу кто-нибудь из рода динозавров… Внимание усиливает восприятие и откладывает его в памяти.
Недавно я вспомнил, как отец учил меня завязывать шнурки. Что-то в памяти щёлкнуло. Даже свет лампочки загорелся под потолком в кухне в моём воображении и рассеивается немного тускло. Я сижу на полу и на пределе способностей сопоставляю шнурки, сначала мне в голову пришло, что я буду сам их завязывать. Совершенно не зная, как это делается, я на шнурках навязываю узелки, но сильно не затягиваю. Мне уже кажется, что и бантики не нужны. Навязать побольше узелков, чтобы шнурки покороче стали, только сильно не затягивать. Это какое-то недоразумение, что узелки всегда затянуты…
Мать обычно проклинает узелки, но сейчас мне не мешает, только моё обратила внимание, что ботинки надо то снимать, то надевать… Я не понял замечания. Она развернула мысль: каждый раз обуваясь и разуваясь, нужно навязывать много узелков, а за бантик потянул, и шнурок развязался. Здесь был возможен длинный мысленный ход, но я спорить не стал. «Научусь завязывать бантики, а потом буду завязывать по-своему…». К нашему разговору подключился отец, показал мне, как сложить два бантика, ловко завернул их друг за друга и связал вместе… Сложенный вдвое шнурок держался в моих пальцах уверенно, но второй надо было защипывать уже пальцами одной руки. Они делались деревянными. Я всё же его защипывал, но после этого не мог шевелить шнурками. Неуклюжесть в пальцах только нарастала, и, когда я пытался шевелить ими, заводя бантики друг за друга, бантики рассыпались. Тогда отец показал более простой способ: обвязал сложенный бантик не бантиком, а просто шнурком и просунул в узелок. второй бантик тоже получался, если не вытягивать шнурок до конца. Я завязываю так шнурки до сих пор…
Детальность стёртых воспоминаний – это различение.
Ницше выходит из себя из-за памяти: «В отношении памяти кроется наиболее сильное искушение допустить существование души. Пережитое продолжает жить в памяти, против того, что оно «появляется» я ничего не могу поделать, воля тут ни при чём. Случается нечто, что я осознаю, затем появляется нечто сходное – кто его вызывает? кто его будит?».
На самом деле, память ещё более загадочное явление. Различение, а – по Ницше – и отождествление, смотрят в ней в глаза друг другу, но это ещё не всё.
Как быть с тем, что два дня назад я вспомнил старого приятеля, которого не видели много лет, а сегодня вдруг встретил его на улице? Что я вспомнил два дня назад – прошлое или будущее?
Знаменитый психолог А.Р. Луриа написал книгу о С. Д. Шерешевском, память которого исследовал всю жизнь. Он так и не смог измерить её объём: ни время хранения информации, ни количество запоминаемого не имели ограничений. Однажды Шерешевский с первого предъявления запомнил длинную строфу «Божественной комедии» на незнакомом ему итальянском языке, потом легко повторил её через 15 лет при неожиданной проверке. Незнакомый язык это даже не смысл. Это – просто звуки. Музыковед И.И. Соллертинский тоже мог пролистать книгу и безошибочно воспроизвести текст любой страницы. Он не читал книгу, страницы которой воспроизводил, только просматривал. Память Шерешевского и Соллертинского различала независимо от объёма информации и времени. Для них всё было «здесь и сейчас». Любопытно, что Шерешевский однажды ошибся. Мысленно располагая многочисленные предметы, которые нужно было запомнить, на знакомой московской улице, он один из них поставил в тень и не заметил. Его подвело внимание.
Структура памяти, возможно, покоится на свойстве эмоций находиться вне времени. Это станет понятно, если вспомнить детское отношение к чему-то, что есть в памяти. Из того отношения мы уже выросли. Тем не менее, оно хранятся, каким было, хоть и сопровождается взрослым «комментарием» … Есть техника переписывания воспоминаний – рефрейминг: нужно вообразить себе другое воспоминание и вести себя в нём иначе. «Новое воспоминание» смешается с тем, которое было, и как-то разрядит болезненные эмоции в реальном воспоминании, но также действует и моё отношение взрослого, «разряжающее» детские эмоции. Эта активность воображения заживляет травму в сознании, но новое отношение к прошлым событиям не в силах стереть того, что было. Чулки на мне больше не болят, но след события хранится в памяти. По сути, он является памятью, доступен мне наряду с новым, взрослым отношением.
Как там Ницше говорит: в отношении памяти – самый большой соблазн допустить существование души?
Когда что-то безбольно ткнёт, голова сама поворачивается в нужную сторону. Чей-то взгляд направлен на вас и попадёт в поле внимания при любом количестве объектов или субъектов. Я опять различаю… Другой человек тоже обернётся, возбудив отпечаток в моей памяти. Я всего-то заметил, что волосы у него растут на макушке, как у меня росли когда-то… возбудил по памяти чувство к самому себе. Это чувство коснулось его и заставило обернуться. Значит, я тоже различал чужие чувства, поводом для которых являлся, пассивно подвергаясь воздействию, но поворачивался и проявлял неосознанную активность по отношению к этому воздействию… Различение чужого внимания, с моей стороны, уже не пассивность, как и не пассивность со стороны прохожего, который обернулся на мои мысли, но это у нас не Нарцисс, такой проворный. Ему показывай – не заметит. Мои эмоции через воздух достигли головы человека, он обернулся, благодаря какому-то внутреннему осязанию. Когда чья-то память касалась меня, я тоже различал, будто, безбольный толчок. Был он внешним или внутренним вообще не имеет значения: формы созерцания отступают, нарушая ряды, если мы имеем отсутствие внешнего воздействия, как внутреннее осязание. Это – порыв ветерка, короткая вспышка в голове, толчок извне-внутрь, а, может быть, изнутри-наружу… «Самодвижение – это движение, которое возвращается в себе самом», – так Гегель определял интуицию. Мои воспоминания о волосах на моей макушке оказываются не однонаправленными. Они идут сразу в обе стороны: отражаются от макушки другого человека и возвращаются в моё внимание в виде его оборачивания. Они совершают работу, если заставляют обернуться, по мнению физиков, только сила совершает работу… Тёмный предшественник уже всё определил буквально: «амбивалентность – сила, идущая в двух направлениях сразу». Пространство, преодолеваемое амбивалентной силой, обладает неограниченным размером. Это кажется немыслимым для ослабших, давно выветрившихся и забытых эмоций, но что для них значит забытых, если они игнорируют время?
Скрытое тоже отменяется эмоциями, потому что срытое – форма созерцания.
Если не замыкаться на дискурсивных установках, что ничего такого не может быть и случайно показалось, – то мысли, направленные на нас, могут быть прочитаны. Нужно только доверять своему воображению. Это именно оно, а не галлюцинации. Чаще всего читается агрессия, её проецируют на отсутствующих рядом людей встречные прохожие, но определённо кажется, что человек хочет дать вам в морду. Вы различаете его эмоциональный фон. Но, на самом деле, это – не вам. Для вас это бесплатное приключение – смотреть в бешеные белки – или почти бесплатное. Мне в жизни всего два раза не повезло с такими гражданами, а встречаются они каждый день. Телепатические связи могут быть и приятными, и вообще любыми. Однажды я ощутил внимание собаки. Она трусила навстречу по дороге и пыталась узнать во мне хозяина.
Телепатические связи сопровождаются чтением мыслей, но мысли окружающих, как правило, скучны. Нашим «я» скучно живётся… На пляже я замечаю мокрые, холодные трусы на проходящем по бережку мимо меня человеке, прилипшие и сидящие на нём, как что-то лишнее. Мне нет дела до его трусов и до него самого, но я, зачем-то, поднял голову от песка, сонно смотрю на него: что он не в формате, осознаю с опозданием. Мы – на пляже нудистов. Но человек в трусах – не примечательный факт – здесь регулярно возникают текстильщики. Я сам загораю, как положено… Через какое-то время соседом тоже загорает «как положено». Он оказался им, я, зачем-то, и это заметил, в очередной раз поднял голову… Теперь я так думаю, что свои печальные мысли он направлял на меня: храбрости набирался, себя со мной сравнивал, к своим мокрым трусам относился с омерзением… Я не стремился прочесть его мысли: моя воля, как говорит Ницше, здесь ни при чём. Кажется, я мимоходом фантазирую о человеке. Мысли меня думают.
Я не один такой интуитивный… По улице медленно идёт девушка, сильно раздетая по причине жары. Я иду быстрей и нагоняю. Её тонкие ноги показались мне уже лишенными гладкости, в голову приходит мысль о целлюлите… Девушка оборачивает ко мне лицо. Я вижу доверчивый взгляд, но прежде всего в глаза бросается твёрдая серьга в ноздре. Любое выражение в глазах, как и выражение интонации – свидетельство какой-то лжи. Откуда она взялась по отношению ко мне, неслышно нагоняющему девушку? Когда замечаешь зубы вместо губ, кольца вместо пальцев или хотя бы ключицы под кожей, – люди что-то различили и обороняются, иногда это удивляет меня до глубины души. Я совсем ничего не думал о них, но когда замечаю оборону, я уже думаю, что они думают обо мне как о какой-то опасности. До сознания девушки различение тоже могло и не дойти. Мысли её думают, но серьга, интимно связанная с телом, излучила в меня свойство своей твёрдости. Не сама же серьга это сделала?! Девушка, скорей всего, ничего не знает. Что-то просто и естественно, тем не менее, отражает мою некомплиментарную мысль помимо её сознания… Никакая это не пассивность. Некая активность действует против меня внешним предметом – серьгой, – замечает мою мысль спиной девушки, филигранно ориентируется в окружающей обстановке… Шило в мешке прокололось: какой-то простой смысл проявляет себя в интуиции, ни слова не говоря.
Ещё пара примеров интуиции. По дорожке большого, заброшенного парка идёт молоденькая девушка. Мы издалека оказались в поле зрения друг друга: опять то-то безбольно толкнуло меня, отлетело в траву, облегчённо, беззвучно смеясь. Я немедленно становлюсь интуитивным, попадаю в ближайшее будущее: мы разойдёмся, как прохожие. Действительно, нас это ждёт. Я начинаю понимать, что девушка тоже различила будущее… Когда мы сблизились, я вообще не смотрю на неё, чтобы ей спокойней было, но мысли скользят в моей голове. В области её живота расширяется полость… Я влетаю туда головой, не задевая края этой норы плечами. Мне известно, что такой полости в теле девушки нет, это – не мои мысли. Кажется, она представляет, как можно быть изнасилованной… Другая девушка вообще шла со своим парнем по улице. Мне понравился контраст её симпатичного худого лица и широких бёдер. Она невольно улыбнулась… могла не сознавать мыслей, которые её думают, но различила комплементарное отношение к себе… Основная функция сознания – опережающее отражение действительности – хорошо коррелирует с интуицией. Именно она и является опережающим отражением действительности.
Гениальный нейрофизиолог Чарльз Скотт Шеллингтон заявил: «Мы не имеем ни малейшего права утверждать, что мышление является функцией мозга». Ефим Либерман – российский биофизик – осветил этот вопрос уже более развёрнуто: «Высокочастотный гиперзвук возникает в клетке, потому что электроны колеблются и задевают за стенки мембраны. В нейроне есть вычисляющая среда. Это – цитоскелет – вычисляющая трёхмерная решётка, через которую идёт звук. Нельзя ничего другого использовать, кроме звука. Если электромагнитные волны использовать, то с размерами порядка молекулярных, они разрушают молекулы. Внутри клетки – жидкая среда, скорость распространения звука триста метров в секунду. Клетку он проходит мгновенно… Мозг работает внутри нейронов на шумовом компьютере с гиперзвуком… в страшном грохоте и шуме… Ничего похожего в личном самосознании нет. Личное самосознание – это не программа, как думает примитивная физиология, это конструкция, про которую наука пока не знает ничего! В мозгу нет места для музыки, для цветного зрения… В нейронном компьютере считать можно, он такой аналоговый, в грохоте работающий, но для личного самосознания там места нет».
Это значит, что в мозгу нет места для воображения: звуки – внутри и снаружи. Внешнее и внутреннее наполнено единым Голосом Бытия, но, говоря о внешнем и внутреннем, мы себя подталкиваем в тупик форм созерцания.
Трёхмерное существо на двухмерной плоскости резвится без правил: появляется и исчезает, где хочет, перемещаясь в третьем измерении, а на плоскости имеет подобие с собой… Бог тоже сотворил человека «по своему образу и подобию». «Без правил» – это как раз свойство эмоций и чистая активность.
В нашем четырёхмерном измерении место для воображения есть только «снаружи» – это как-то неправильно. Деформация воображением времени, как трансцендентальной идеальности, вообще ставит в тупик. В «Мире без времени» мне открылось множество мысленных ходов и исчезло за секунду. Я не мог простоять в самом бойком месте магазина, на входе дольше, но потом вспоминал мысленные ходы, будто, пятясь назад. Эти воспоминания длились много лет, но есть смысл не считать, что они, как более поздние выдумки, возникли. Без них у истории нет начала, а теперь через сотни страниц я могу прийти к моменту, где ноги приросли к полу. Тем не менее, времени, в течение которого я воспринимал свои мысленные ходы, стоя в дверях, не было. Меня даже толкнуть не успели.
Мы оказываемся в ситуациях, где речь нельзя вести о времени и нельзя о пространстве. Девочка переместилась на косогор, минуя пространственные моменты: стенку вагона, скорость поезда и прочее, и это – не единственный случай. Олег Горбовский описал ещё один: местный житель шёл из гостей вдоль забора из колючей проволоки… Таких заборов там было много. Он выпил в гостях и поглощено перебирал в памяти детали разговора, а забор всё не кончался, наконец устав, пошёл к домику в стороне. Это оказалось помещением охраны. Там его допросили: как он попал на территории охраняемой зоны? Он, разумеется, не знал… Периметр осмотрели, повреждений не было. Дядьку отпустили, но случай попал в анналы…
Карлос Кастанеда тоже пишет, что Дон Хуан толчком в спину переместил его на другой конец города. «Психические явления не ограничиваются пространством и временем, хотя бы частично не подчиняются физическим законам, существует надперсональный слой психики». (К. Г. Юнг).
У нас есть все основания, чтобы выдвинуть гипотезу. Какой-то простой смысл имеет больше измерений, чем четыре, хотя бы, на одно. Из-за этого все наши четыре измерения ведут себя причудливо. Вроде бы я всегда пребываю рядом со своей памятью, но вдруг это откровенно начинает плыть… уже слово диафрагма прилетело ко мне издалека. Мы не можем созерцать внутри себя пространство за исключением случаев работы воображения… «Другой» или «внешний» – структура восприятия мира, – «другим» для Нарцисса может быть и его воображение. В нашем сознании нет ничего, кроме проекций реальности. Если сознание содержит в себе ещё и проекции «я», вроде воображения, тогда Нарцисс является медиумом между «я» и реальностью.
Собственная форма мышления «я» – интуиция – совпадает с истиной, но в истине – вожделение Нарцисса, а не «я». Свойство идей разума – быть бесконечными – обосновано тоже не Нарциссом. Он конечен и ограничен, а его сознание собирается жить вечно. Ничто не может объяснить пристрастие Нарцисса самого по себе и к бесконечным идеям. Мы может находить в сознании проекции «я», у которого больше измерений. «Я» не вмещается в наши измерения, вообще преодолевает всё, что доступно Нарциссу. Для Нарцисса истина конкретна. Это – зеркальное отражение её всеобщности для «я».
Где проходили процессы, позволяющие безусловным рефлексам игнорировать время и не изменяться, если в утробе матери плод изменялся каждый день? Четырёхмерная реальность не знает таких процессов. В ней всё течёт, и господствует изменение вместе со временем.
Открытия на основе понятий тоже нельзя рассматривать только как что-то, принадлежащее Нарциссу и четырём измерениям. Они имеют «внешнее» бытие для разума, являются новостью и для него. Нарцисс наталкивается на них случайно.
Опыт играет роль в сознании, но мы должны задаться вопросом: зачем он нужен, если у нас есть интуиция? Дело в том, что интуиция – не у нас, а у «я», – но время от времени сливается с Нарциссом в общую духовность… Созерцая себя взрослым в клетчатой рубахе, я вылез из автобуса, которые тогда ходили. Он – мой опыт. Вообще же, интуиция противопоставлена опыту.
Мышление систематизирует опыт всю жизнь вместе с памятью. На основе опыта организуется внимание. Опыт включается в работу внимания и её направляет, но принципиальный выбор, на чём концентрируется внимание, какой именно опыт накапливается, делается при выборе ведущей координаты не Нарциссом. Этот выбор делается о том, каким будет Нарцисс, и возникает раньше опыта. Сначала дети интонационно ориентируются в смысле. Интонация служит «входными цепями» в опыт. Она – очевидно – что-то «внешнее», в то же время может осмысливаться «внутри». Эта откровенная путаница, возникающая в пространственных локализациях, подобна той, какую делает третье измерение с плоскостью.



