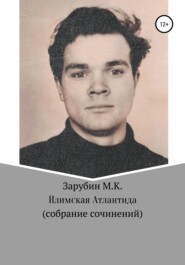 Полная версия
Полная версияИлимская Атлантида. Собрание сочинений
Уже давно она ушла от нас. В укромном уголке моей памяти я храню добрые слова, чувства, улыбки, предназначенные этой чудесной женщине. Очень жалею, что при ее жизни не сказал ей всех слов, которые она заслуживала.
А несколько лет назад я заболел по-настоящему. Причиной болезни вряд ли можно было назвать те давние детские травмы. Скорее, это были последствия моей профессии, связанной с бесконечными походами по стройкам: в дождь, в грязь, в морозы и жару, днем и ночью. Кашель и одышка повлияли на ритм жизни, не позволяли ходить на большие расстояния. Мукой стал подъем по лестнице к собственной квартире, хотя раньше я пролетал своих три этажа за секунды.
В клинике Первого медицинского мне предложили отдельную палату со всеми удобствами: санузел, ванная, телевизор, телефон и даже мини-кухня с холодильником. Признаться, меня это удивило: я помнил еще советские больницы: там, если было две кровати в палате, считалось люксом, особо комфортными условиями.
За неделю, напичкав мой бедный организм лекарствами под завязку, врачи поставили меня на ноги. Кашель прошел, одышка уменьшилась. Я уже ждал выписки, но лечащий врач попросила подождать несколько дней.
– Необходимо повторить некоторые анализы, чтобы поставить окончательный диагноз, – сказала она.
Через неделю пришел директор клиники, профессор – немолодой, совершенно седой человек, с острым, пронзительным взглядом. Сделав какие-то свои дежурные манипуляции, послушав дыхание со стороны спины и груди, постучав пальцами по лопаткам, проверив давление, профессор долго рассматривал рентгеновские снимки.
– Да, коллега, – наконец-то сказал он лечащему врачу, – вы правы.
Повернувшись ко мне, подытожил:
– У вас неприятнейшая болезнь, идиопатический фиброзный альвеолит.
Я попросил профессора объяснить столь мудреный термин по-простому, насколько возможно.
– По-простому, – профессор улыбнулся, – это будет примерно так. Представьте себе озеро с чистой водой, и в один прекрасный момент оно начинает зарастать камышом. Все меньше и меньше становится гладь свободной воды, и, наконец, озеро превращается в болото. Эта болезнь имеет такие же свойства: альвеолы зарастают фиброзными рубцами, и грядут соответствующие неприятные последствия. Болезнь коварна, случаются и летальные исходы.
– Как же ее лечить, профессор?
– Будем подбирать лекарства, наблюдать, проводить процедуры… И надеяться, что смерть ваша наступит еще очень нескоро, и совсем от другой болезни…
Я не чувствовал ни боли, ни какого-либо неудобства, связанного с этой странной болезнью. Удивительно: болезнь смертельная, а ничего не болит. Но профессор не похож на шутника, и сейчас за окном июнь, а не рождественские святки.
Но жизнь, действительно, продолжалась и дарила много радостей. Как праздник вспоминалась Италия, в мае мы с Ниной побывали там. Слепящее солнце, приветливое море. По вечерам мы прогуливались по улочкам Милана, Флоренции, Пизы, забредали в крохотные придорожные ресторанчики, ели пиццу, запивая сладким кьянти. Это было так недавно. Со мной там что-то случилось: я каждый день признавался Нине в любви. Жена смеялась: «Это дивная здешняя природа и неиссякаемая красота тебя молодят…»
Я не позволил своей страшной болячке сломить меня, овладеть моими мыслями, вселить в сердце тревогу, помешать мне работать и жить. Я сказал болезни, что я ее не люблю, не боюсь и, вообще, – ее не существует…
Завтра мне шестьдесят пять. Для моего младшего внука это, вероятно, кажется вечностью. А для меня моя жизнь – солнечная песчинка в океане времени. И бытие мое не закончено. Впереди планов «громадье», еще многое нужно успеть: построить дома, написать книги, увидеть далекие страны. Останавливаться нельзя. Автомобилисты хорошо знают: стоит одну только зиму не поездить на машине, да еще оставить ее на улице – можно готовить свою «ласточку» на металлолом.
А память опять уносит меня в детство. На русской печке, где было мое законное место, я зажигал керосиновую лампу и читал ночи напролет. Читал о героях Отечественной войны, летчиках, сынах полков, пионерах, отдавших жизни за Родину. Я проживал героическую жизнь вместе с ними. А утром вставал на лыжи и по прямой, как стрела, лыжне бежал к Кулиге и Малой речке. О чем я думал в это время? Может быть, о том, что еще ничего не успел сделать в той начинающейся своей жизни. Как жаль, что я родился так поздно, во времена, совсем не героические…
Я и сейчас бегу по лыжне жизни, стараясь еще кое-что успеть. Я не хочу подводить итоги. Мне рано подводить итоги!
Я способен еще жить и любить. Любовь помогла мне преодолеть все трудности, ограждала от бед, освещала мой жизненный путь, каменистый и извилистый. Немало я сделал и в своей профессии.
Завтра мне шестьдесят пять лет. А я только вчера, кажется, появился на свет около быстрой речки Кеульки. Я прикрыл глаза и увидел живую картину нашей вечной сибирской природы: пристальное небо, величественный ангарский берег, на котором дом, где жила наша семья, кажется маленьким, игрушечным. Глухо шумит Ангара, о чем-то своем, повседневном тараторит впадающая в нее речка Кеулька, а на меня ласково смотрят мамины глаза.
…Во сне и наяву
– Дедушка, ну где ты так долго был?! – Пашка бежал по дорожке к воротам, размахивая, что есть силы, руками. – Мы же договаривались, что приедешь к семи!
– Договаривались, Паша, но работа задержала, а потом, как назло, пробка на кольцевой…
Следом за Пашей степенно шла Нина. Тоже упрекнула меня:
– Хоть бы позвонил. Мы уж не знали, что и думать.
– Прости, милая, телефон разрядился, – начал я оправдываться.
– Сколько раз я просила тебя купить автомобильную зарядку.
– Обязательно куплю.
– Одни обещания…
– Завтра, Нина, куплю точно.
Но внук не стал выслушивать мои оправдания:
– Дедушка, хоть и поздно, а слово нужно держать. Ты обещал поехать! Велосипеды готовы. Тебе это тоже нужно, и так целый день сидишь то в кресле, то в машине, – мой девятилетний внук явно повторял бабушкины слова.
Нина с улыбкой смотрела на меня.
– Обещал любимому внуку ежедневные поездки? Выполняй. Нельзя обманывать детей.
Я развел руками, изобразил страдальческую гримасу:
– Но хотя бы переодеться можно?
– Ура! – закричал, подпрыгивая, Пашка, а Нина продолжила:
– Конечно, можно. Я подогрею тебе ужин, пока вы катаетесь на велосипедах. Мы уже поели, но вместе с тобой чаю попьем, чтоб тебе не было скучно.
– Спасибо, родная, – я обнял жену за плечи и нежно поцеловал.
Радость общения с женой прошла драгоценной нитью через всю мою жизнь. Увидев ее в шестнадцать, я был вдохновлен редкой красотой девчонки и долгих три года добивался ее сердца и руки. С годами моя возлюбленная как будто не менялась, прожитые годы, казалось, не старили мою Нину. Свою красоту она передала двум дочерям и четырем внукам, учила их уму-разуму и беззаветно любила, по первому зову бросала все дела и летела к ним, прикрывая от бед, помогая быстрее залечить любую боль. Для всех в нашей семье она была главной и достойно несла это свое служение: никто никогда не слышал ее крика, рыданий, истерик. Тихий голос, ласковый взгляд, любящее сердце – вот проверенные средства от всех семейных невзгод.
Нина осторожно тронула меня за плечо:
– Внук ждет, Миша, да и время позднее.
Я быстро надел спортивный костюм, и покатили мы с внуком на велосипедах по улицам маленького городка, который одним своим бочком как будто прижимался к Питеру, отделенный от него лишь узкой лесополосой. Дачный дом летом был постоянным пристанищем для всей нашей большой семьи. Здесь все было благодатно: зеленая лужайка с маленьким футбольным полем, добротные качели, способные возносить тебя так быстро и высоко, что казалось, небо летит к тебе навстречу, и ты вот-вот коснешься ногами облаков. Ранней весной расцветали занесенные в красную книгу ландыши. Они, как будто укрываясь от охотников за диковинными цветами, нечаянно оказались за нашим забором, когда это случилось, не помнил никто. В середине июля на участке поспевала черника, нет, не садовая, а самая настоящая, лесная. И никто из нас не проходил мимо, чтоб не поклониться щедрости природы и не собрать горстку блестящих ягод.
На дороге, засыпанной мелкими камушками, шины велосипедов натужно шуршали, колеса вихляли, преодолевая преграды из камней покрупнее. Но как только галька заканчивалась, ход становился плавным, скорость увеличивалась. Пашка всегда был впереди, и не потому, что я поддавался ему. Сил у меня не хватало, чтобы обогнать внука, особенно трудно приходилось, если встречалась горка. Совсем недавно врачи обнаружили у меня болезнь легких и настоятельно советовали совершать велосипедные прогулки, принимая их необходимость как лекарство.
– Дедушка, – Пашка повернулся ко мне, – давай по большому кругу!?
Я помолчал, обдумывая свои возможности. Большой круг – пять километров, малый – три. Пашке, конечно, хотелось покататься подольше.
– Ну ладно, раз ты меня заставил поехать, и погода отличная, поедем по большому. Только повнимательнее, не соревнуйся с машинами и мотоциклами.
– Хорошо!
И Пашка понесся вперед, залихватски раскачивая из стороны в сторону велосипед.
– Паша! Паша! – закричал я. – А ну стой!
Но внук, не слушая, летел по улице.
– Паша, я поворачиваю назад!
Услышав мою беспрекословную интонацию, внук чуть притормозил, обернулся с притворно обиженным выражением лица и согласно замахал рукой:
– Ладно, дедушка.
Педали Пашка стал крутить медленнее, поглядывал по сторонам.
Погода была по-летнему приветливая, возле домов благодатно нежились цветы. Отдельные дворы хорошо просматривались сквозь заборы, не скрывавшие материальные приметы дачного отдыха. Грациозные металлические скамейки с мягкими цветными подушками под непромокаемыми крышами ярких зонтиков, кресла-качалки из ротанга, закопченные мангалы с выплескивающимися из них струйками ароматного дыма. Откуда-то доносилась тихая музыка, слышались смех молодежи и веселые крики детей. Все это создавало неповторимое очарование дачной жизни.
Ноги, крутившие педали, стали уставать, сиденье больно врезалось в ягодицы. Я, стирая капли пота со лба, остановился, и Пашка, увидев это, сразу повернул назад.
– Дедушка, что с тобой?
– Устал, отдохну минутку.
– Хорошо, я подожду. Знаешь, дедушка, что я заметил?
– Что?
– Ты на этом повороте всегда останавливаешься.
– Какой ты внимательный, Пашенька. Это правда. На этом повороте я всегда останавливаюсь, а если бываю ранним утром здесь один, когда вы с бабушкой еще спите, то передохнуть сажусь вот на эту скамеечку, что стоит под старинным дубом, и наслаждаюсь покоем утра, появлением первых солнечных лучей. Мне хорошо здесь.
Внук понял, что надо возвращаться. Нина ждала у ворот. Сначала обняла и поцеловала Пашку, потом меня. Помывшись, поужинав, даже не посмотрев в сторону телевизора, я пошел отдыхать. А внук за мной.
– Дедушка, попроси бабушку, пусть она разрешит мне спать на раскладушке в вашей комнате, а то знаешь, как скучно одному.
– Знаю, Паша, поэтому никогда не сплю один в комнате.
– Ну вот, хоть ты меня понимаешь. А то и дома я один, и здесь один. А перед сном так поговорить хочется, а с кем поговоришь?
Я обнял Нину.
– Пусть Паша спит у нас, он ведь прав, когда и где нам поговорить?
– Миша, но он уже большой.
– Конечно, большой. Но знаешь, если честно, то мне, наверное, сильнее, чем ему, хочется, чтоб он был с нами.
– А кто вам мешает общаться? Сидите себе в большой комнате и говорите.
– Нина, самые интересные, самые задушевные разговоры – перед сном.
– Ладно, что с вами делать, вас не переспоришь, – согласилась, улыбнувшись, моя умная жена.
Мы с Пашкой быстро разложили раскладушку, благо, стояла она тут же за шкафом, расстелили постель, и внук юркнул под одеяло.
– Ну, что Паша, будем спать и смотреть сны?
– Дедушка, а ты сны видишь?
– Вижу.
– А я нет. Хотя, вроде бы, и вижу, но когда просыпаюсь, забываю.
– Что значит – «вроде бы»?
– Какие-то картинки остаются.
– У меня тоже такое бывает, просыпаешься и чувствуешь, что твой сон словно уплывает. Некоторые утверждают, что совсем не видят снов, но это не верно. Сны видят все.
– Откуда ты знаешь?
– Ученые этим специально занимались. Человек спит треть своей жизни, представляешь? Существует целая наука о сне.
– А животные видят сны?
– Конечно, видят, но что они видят, об этом можно только догадываться. Ты замечал, как Мурзик во сне дергает лапами, будто бежит? Может, ему снится погоня за мышкой или птичкой.
– А расскажи, дедушка, про свои сны.
– Устраивайся поудобней, накройся одеялом, подушку повыше подтяни. Все сделал? Ну тогда слушай. Очень часто в последнее время я вижу один и тот же сон. В этом сне я летаю.
– На самолете?
– Да нет.
– На ковре-самолете, как старик Хоттабыч?
– Не перебивай, Паша. Ни на чем таком я не летаю, ни на самолете, ни на ракете, ни даже на ковре-самолете. Но как будто смотрю на землю сверху, и не с одной точки, а кружусь над огромным зеленым морем кедрово-сосновых зарослей, заполнивших родные мои любимые места. Лечу над каменистым и крутым Красным Яром, над желтыми, отлогими берегами реки Илим, над лугами и пашнями. И видно мне сверху деревню моего детства Погодаевку, что когда-то стояла на Илиме. Вижу пионерский лагерь в трех километрах от деревни на другой шустрой таежной речке Тушаме.
Как птица парю, и сверху все отчетливо вижу. Вот ясно вижу, как стремительным ручейком в берегах тропинки бегут из деревни в пионерский лагерь ребята. Среди них узнаю себя. Конечно же, это я!
– Дедушка, ты мне сказку рассказываешь? Как можно летать неизвестно на чем и сверху видеть себя?
– Во сне можно увидеть и не такое. Каждый сон – это сказка. Ну, где я увижу сейчас родную деревню. Ее давно нет, и место, где она стояла, покрыто водой. Причем глубина огромная – шестьдесят метров.
– Ого, дедушка, а что случилось? Почему вода затопила деревню?
– Это, Паша, отдельный разговор: про море, про исчезновение деревень. Я тебе свой сон рассказываю, будешь слушать?
– Буду.
– Ну, вот и славно. В моем сне я всегда вижу поляну перед деревней. Это место игр, встреч, увеселений, праздников, общественных собраний и гуляний по самым разным поводам. Мы, пацаны, играли здесь в лапту, взрослые – в городки. Поляна – большая, место – красивое. Осенью и весной здесь жгли костры. Иной раз пламя поднималось очень высоко, летели искры в небо, словно настоящий фейерверк. Все деревенские люди здесь собирались и радовались этому огню не меньше, чем в городе какому-нибудь салюту. А зимой с этой поляны гоняли вниз к речке на санях. Нет, не на санках, какие у нас в сарае стоят, а на больших санях, в которые можно было запрягать лошадей и возить грузы. Отпрягалась лошадь, убирались оглобли, девчата садились в эти санки, а парни толкали сани сзади, запрыгивали в последний момент, и все вместе весело, со смехом, в обнимку друг с другом летели с угора до середины реки. Вот было радости!
Эта замечательная поляна была еще и местом нежных встреч, любовных свиданий. Отсюда же уезжали на покосы. Обойти, объехать эту поляну – невозможно. Откуда бы ни возвращались, она на пути, а дошли до нее, значит, уже дома. Ее никогда не распахивали, и там всегда росла густая, какая-то радостная трава. Ты знаешь, я столько повидал в жизни, а такой красоты не встречал.
– Миша! О чем ты говоришь с внуком? Какие любовные свидания? Паше девять лет, разве ему нужны такие разговоры?
– Ниночка, мы ведем беседы про сны.
– Ну, раз про сны, тогда гасите свет и спите, уже поздно.
– Видишь, Паша, как бабушка сурово с нами поступает. Но она права, время позднее. Давай спать, завтра суббота, я буду с тобой весь день, и мы найдем время поговорить обо всем на свете.
– Вот так всегда, как интересный разговор, так – спать.
– Хорошо, мои родные, – сказала бабушка. – Пять минут вам на окончание разговора.
– Ну что ж, попробуем управиться. Знаешь, Паша, что я еще всегда вижу в этом сне? Реку Илим! Сейчас она известна всему миру, а когда я был маленьким, о ней знали лишь наши таежные деревни, что стояли по ее берегам. Повзрослев, я понял, что для меня это лучшее место на свете. Ведь там прошло мое детство.
Сразу после весеннего ледохода, как только успокаивалась вода и становилась чуть теплее, мы начинали купальный сезон, купались до пупырышек на теле – почему-то это у нас называлось «продавать дрожжи». Чтобы согреться, бежали на большую площадку у колхозного амбара, сделанную из плах (на ней осенью сушили зерно), и там грелись на солнце. Вода нас притягивала, словно магнит, а дно Илима мы знали, как свой огород. Знали, где плыть, где встать, где нырять. Я не помню рядом взрослых, мы старались обходиться без них, хотя из-за этого и беды случались.
Илим – река-дорога. Первые русские, осваивавшие Сибирь, проходили по Ангаре и Илиму. Это река – трудяга. Летом лодки, баржи и катера шли по ней вверх и вниз. А зимой она превращалась в широкую и ровную сухопутную стезю. Ее очищали от снега и лошади, машины от деревни к деревне возили людей, товары, всякий груз.
Илим – это река кормилица. Летом каждое утро, рано поднимаясь, я бежал на берег, садился в лодку и плыл к поставленным с вечера «мордам» – это такие ивовые устройства для ловли рыбы. Они стояли на реке напротив каждого дома. Места всем хватало. Единственно – чтобы не перепутать «морды», поплавки были разные.
В основном попадались ельцы и сорога. Иногда – ерши и мокчоны, но они безжалостно выбрасывались, мороки с ними много. Правда, из ершей уха получалась отличная, но на ее приготовление требовалось время и вдохновение.
Ельцов и сорогу я нес домой, чистил, и мама тут же зажаривала добычу на сковородке, заливая яйцами. Все покрывалось хрустящей, необыкновенно вкусной корочкой. Это был завтрак, который мы запивали парным молоком. Я до сих пор ощущаю вкус этого необыкновенного блюда. Потом я много раз пробовал его приготовить, кажется, все делал так же, но не получалось. Чтобы получилось, нужен наш Илим, нужен тот особый речной воздух, нужна мама.
– Миша, пора.
– Пашенька, давай спать, у бабушки скоро лопнет терпение. Попробуем утром рассказать друг другу то, что мы видели во сне.
Утром я проснулся, как всегда, рано. На улице было пасмурно, но дождик не крапал. Я вышел на крыльцо, вдохнул утренний прохладный воздух. Его аромат был сложен, как симфония: ярко звучали пряные ароматы трав, им тихо вторили благоухания цветов, врывались смоляные нотки запахов сосен и елей. Окутанный утренней душистой мелодией нашего сада, я стоял грустный и думал, что нечего будет рассказать внуку.
Сегодня ночью не было сновидений, а может, были, но растаяли, не оставив в памяти следа. Сновидение – волшебная сказка, а сказки прихотливы: захочет – придет, а не захочет – жди следующей ночи.
Паша спал долго, наверное, еще бы спал, но бабушка разбудила.
– Ну как, видел сон? – спросил я.
Паша задумался, потом честно ответил:
– Нет, ничего не видел, а ты?
– И я ничего. Наверное, моя память слишком быстро перепутала то, что я раньше видел во сне и то, о чем думаю.
– А о чем ты думаешь?
– Ну, так просто об этом не скажешь. Обо всем на свете. Как у каждого человека, все перемешано: мысли о работе, о родных, друзьях и врагах, воспоминания накатывают. Сейчас, как ни странно, на седьмом десятке часто вспоминается детство.
– Почему?
– Наверное, хочется быть юным, чтобы впереди была долгая-долгая жизнь. Иногда и не во сне, еду в машине, прикрою глаза и вспоминаю.
– Как можно закрывать глаза в машине, на дороге?
– Я закрываю, когда не за рулем, у меня же служебный автомобиль. Прикрою и вижу Красный Яр, что заслонял нашу деревню от холодных северо-западных ветров.
Красный Яр – почти отвесный склон, высотой под сто метров. Словно какой-то гигант разрезал ножом огромную краюху хлеба пополам: одну половинку оставил, а вторую съел. Я часто приходил на этот Яр. С него хорошо было видно нашу деревню, соседнее село, Кулигу, Малую речку. Стоишь на берегу обрыва, дух захватывает. Внизу под ногами птицы летают, Илим, делая крутой поворот, течет к Ангаре, за рекой поля, а дальше до самого горизонта, тайга без конца и края.
– Добрые люди в это время уже завтракают, а вы еще постели не застелили, все разговоры ведете, – это бабушка возвращает нас к привычной жизни.
Паша вздыхает и идет умываться. За завтраком он спрашивает меня:
– А бабушка говорила, что ты в детстве спал на печке. Наверное, это сказка. Ну как на печке можно спать, на ней можно только варить или жарить.
– Бабушка права. Место, где мы жили, называлось прирубом. Его прирубили к основному дому. Был он метров шесть в ширину и метров пять в длину, кухонька, отделенная деревянной перегородкой, огромная русская печка. Остальное – большая комната, в которой стояли две кровати. На одной спали две мои сестры, на другой – мы с мамой. Когда я стал постарше, лет шести, мне отвели место на русской печке. Здесь сушилось зерно. Я устраивался на подстилке и засыпал, окутанный запахом свежего хлеба, А утром в воскресенье, когда мать начинала стучать посудой, выглядывал в проем между дымовой трубой и стеной и протягивал руку: «Мама, пирог хочу». И тут же он – только из печи, горячий – у меня в ладони… Хоть печь и топилась дровами, но сгореть на ней было нельзя. Вообще это была жизнь, наполненная чудесами. Научившись читать, я ставил рядом с собой керосиновую лампу и, закрывшись шторкой от реальности, запоем читал. Вокруг темно, только желтый кружок от керосиновой лампы, а я далеко-далеко – в вымышленном мире книги, где столько интересного, где ты и силен, и храбр, и смекалист.
Иногда я не расставался с книжкой до утра, за что мама ругала, правда, без злости, я это чувствовал. Рядом со мной спал любимый кот. Но я с моим чтением интересовал его меньше, чем тепло и блюдечко с молоком. Все, что было у меня дорогого и любимого, хранилось здесь же, на печи. Здесь я мечтал и рос не по дням, а по часам, как говорится в сказках. Два раза в год печь подмазывалась и белилась. Чуть-чуть дав ей отдохнуть от себя, я снова забирался наверх, чтобы жить жизнью счастливого человека.
А какую вкуснятину делала мама в самой печи! Эти круглые большие хлеба, аромат их каждое воскресенье заполнял дом. А щи и борщи в чугунках, подтомленные в русской печи, а пареная брюква…
Разговор с внуком прервала Нина. С улыбкой попросила:
– Поешьте спокойно, не мне вас учить, что за столом лучше помолчать.
– Наша бабушка, как всегда права, Паша.
Мы посмотрели друг на друга, улыбнулись и стали завтракать. Через минуту Паша не выдержал:
– Очень хочу полежать на русской печи.
– Сначала ее надо найти.
Нина погрозила нам, и мы опять смолкли, глядя в тарелки. Но через мгновение, поглядев друг на друга, без причины стали улыбаться: сначала Паша, следом – я, а потом и Нина. Мы улыбались потому, что начался новый день, что выглянуло солнце, согрелся воздух, распелись птицы. И казалось, весь мир радовался вместе с нами.
Откуда начинается река
Мария Андреевна и Алексей Федорович, находясь в ответственном достоинстве деда и бабушки, в большом семействе Зубовых были самые старшие. Из своих заботливых рук они, как оперившихся птенцов, выпустили на волю взрослой жизни уже четырех внуков. Старики не жили в семьях дочерей, но всегда были рядом. Как им удавалось оказаться на месте по любой семейной надобности, было непонятно, но все в семье знали, что если что-то случилось или еще только намеревается случиться, дедушка с бабушкой, как незримые ангелы, появятся вовремя и обязательно помогут. Общение стариков с внуками не ограничивалось встречами по выходным и подарками. Это было более ценное, глубокое, воспитывающее чувство семейного родства общение, которое должно укорениться в молодых членах семьи, а потом быть передано их детям и внукам, чтобы не прервалась связь родов и времен. Бывало, дед с бабушкой на несколько дней забирали внуков к себе или на недели уезжали с ними отдыхать в дома отдыха, санатории, могли все вместе отправиться в туристическую поездку. Внуки любили такие встречи, ждали свою бабушку с дедом не из-за подарков, общение с ними было интересно и радостно, как с умными веселыми сверстниками. Время каждой такой насыщенной добрыми чувствами встречи пролетало быстро, старики знали свой час, знали, как не наскучить внукам и не утомить их родителей. Они как будто и сами молодели от общения с любимыми людьми.
Но, как говорится, время неумолимо, вот уже и Пашенька – младший, четвертый внук вошел в юношеский возраст: не верится, что он уже восьмиклассник, учится в музыкальной школе, профессионально занимается теннисом. В общем, – вырос, занят, и нет у него времени на общение с дедом и бабушкой.



