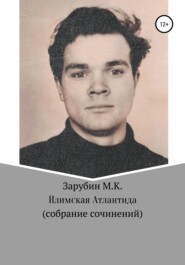 Полная версия
Полная версияИлимская Атлантида. Собрание сочинений
– Нет, Мишка, я не буду ни от кого таиться, верю, значит, верю, чего мне лукавить? Чего мне перед Богом изворачиваться? Он, в отличие от этих, – она кивнула головой в окно, – все видит.
– Мама, ну сколько говорить тебе, что это все придумки! Ну как можно видеть каждого человека, да еще знать, что он делает и думает?
– Бог может, Миша, и видеть, и думы человеческие знать.
Они оба замолчали, каждый думал о своей правоте.
Прошло недели две. Однажды поздним зимним вечером, делая домашнее задание и дожидаясь маму с работы, Мишка уснул за столом.
Сон унес его на вершину Красного Яра. Мишка со стороны смотрел на себя и видел, как он идет не к обрыву, откуда видно родную деревню, Илим, речку Тушаму, а в противоположную сторону. Тропа вела мальчика в глубину леса и вывела к круглому озеру.
– Вот те на, откуда же здесь озеро? Сколько раз бывал, а не видел его никогда.
Озеро было небольшое, метров сорок в диаметре, идеально круглое, как зрачок. Казалось, кто-то циркулем очертил его берега. Вода в нем небесно-голубая, прозрачная: то ли дно просвечивает, то ли небо отражается. Красота озера завораживала. Что же питает это озеро? Может быть, подземные источники? И тут Мишка увидел, как в одном месте неразрывным искристым потоком падала в озеро зеркальная струя. У самого обрыва стояла церковь. Тишина дремучего леса была такая, что позволяла слышать шум крови в ушах, а стук Мишкиного сердца, казалось, разносился далеко по округе.
Мишка вошел в храм, в нем шла служба. К своему удивлению, он увидел маму и всех жителей деревни. В первом ряду смиренно стоял бригадир Василий Григорьевич.
– Мама! – крикнул Мишка.
Мать приложила палец к губам, взяла сына за руку и поставила рядом с собой.
– Мама, мне нельзя молиться, я пионер, – недовольно прошептал мальчик.
– Постой рядом молча.
Мишка угомонился, ощутив необычность происходящего, послушно встал рядом с матерью. Мерцающие свечи, зыбкое парение неведомого ему пахучего вещества потрясли мальчика. Казалось, из-под купола храма струилось прекрасное песнопение. Все, находящиеся в храме, уверенно вторили непонятным словам. Мишка запомнил только многократно повторяемое «Господи, помилуй».
Богослужение закончилось, умиротворенные и вдохновленные люди стали выходить из храма. Анна взяла сына за руку и подошла к священнику.
– Отец Матфей, это мой сын Михаил. Прошу вас, благословите его.
– Мама, ну что ты делаешь – зашипел Мишка, выкручивая руку, – я же пионер.
Священник ласково посмотрел на Мишку глазами цвета того необыкновенного озера и добродушно сказал:
– Пионер, говоришь? Так что же в этом плохого? И пионера благословить можно. И пионер Божье дело в этом мире делает – доброе дело.
– Бога нет, так нас учат в школе, – смущенно возразил Мишка.
Священник улыбнулся и, обняв юного строптивца за плечи, ответил:
– Ты попроси сейчас о чем-нибудь Господа, и все сбудется.
Мишка с недоумением поглядел на мать, на священника.
– Это все сказки, – пробурчал он. – Никто не знает, что будет дальше…
– Никто, кроме Бога, – твердо сказал священник, словно поставил окончательную точку в разговоре. – И Он знает, что, когда ты вырастешь, вспомнишь этот день. Знает, что и ты сам вступишь в партию большевиков. Побываешь в Москве, в Кремле. Знаменитым человеком станешь по молитвам твоей милосердной матери. Запомни, Господь обо всем знает. И о богатствах твоих, и о бедах, и посылает помощь тебе по необходимости. И вразумление, когда надо.
Мишка схватил материнскую руку и прижался к ней…
– Успокойся, сынок. Успокойся…
Он проснулся. Рядом была мама, которая гладила его по голове своей ладонью, похожей на мягкое, светоносное крыло неведомой птицы.
* * *В партию Анна не вступила. Мишка рос, мужал. Он был целеустремленным, талантливым. Многого добился сам, но был твердо убежден, что на его жизненном пути ему все время помогает кто-то незримый, оберегает, направляет и вразумляет…
В тридцать лет и три года Михаила приняли в члены КПСС. В сорок три он был избран делегатом съезда коммунистической партии, руководившей огромной страной. Об этом событии он сообщил в деревню телеграммой. Подписывая обратный адрес, с гордостью поставил: Москва. Кремль.
Михаил шел по территории Кремля с таким воодушевлением, какого не испытывал ни разу в жизни. Ему радостно было от того, что он делает нужное дело, что оно оценено государством. Но более всего ему радостно было ощущать себя в окружении древних русских святынь. На него смотрели церкви и башни, которые видели и русских венценосцев, и предводителей народных бунтов, и молящийся Богу народ Руси православной. Здесь, в Кремле, он ощутил неразрывную связь с русскими людьми. История виделась ему не отвлеченным школьным текстом, а живым монолитным потоком, огромным крестным ходом, в котором и ему отведено место. А рядом с ним была его мать Анна. Он не мог разглядеть ее лицо, но отчетливо слышал голос, напоминавший ему великую человеческую мудрость: нет богатств земных, тленных, которые превысили бы нетленные сокровища духа и веры…
Из каких-то неведомых закоулков памяти явились вдруг строки из любимого стихотворения петербургского поэта Бориса Орлова:
Жизнь идет от порога к порогу,Находя утешенье в ходьбе.Мама искренне молится БогуПеред иконою в русской избе.Утром дерево детского ростаСтелет ковриком тень на крыльцо.Все таинственно, мудро и просто.У всего есть душа и лицо…Вот она, тайна бытия России, тайна ее непобедимости и достоинства. В маленьких деревенских избах, в величественных государевых соборах, пред бумажными образками и пред храмовыми святыми в золотых окладах идет непрестанная православная молитва. И покуда не иссякнет она, не иссякнет и русский род.
Юбилей
Поздним вечером все семейство Карнауховых собралось за кухонным столом. Семья по деревенским меркам небольшая: глава семьи Анна Савельевна, статная, красивая женщина, две ее дочки и сын.
– Ну что, дети, праздник приближается, – интригующе и радостно сказала мать.
Дети удивленно посмотрели на нее – в календаре никакого праздника не было. Мать пояснила:
– У Мишани нашего юбилей через неделю!
– Что за юбилей? – недовольно спросила Мила.
– Самый настоящий юбилей – десять лет ему исполнится!
– А я-то думала, какой-то другой праздник. А это всего лишь день рождения, – разочарованно добавила Мила.
– Это не просто день рождения. Десять лет в жизни бывает только раз. Миша во второе свое десятилетие вступает, с него теперь и спрос другой. Да и отдача от нашего единственного мужичка вырастет, и другое отношение к жизни появится. Вот увидите.
– Ну ладно, юбилей так юбилей, – смилостивилась Мила. – И что, мама, надо делать?
– Надо сделать хороший веселый праздник. Я хочу, Миша, чтобы ты пригласил своих друзей.
– Так у меня друзья только погодаевские…
– Вот их всех и пригласи!
– А у нас места хватит?
– Я постараюсь, чтоб хватило и места, и угощения.
В свой день рождения, вернувшись из школы, Мишка избу свою не узнал. Новенькие половики были разложены от самого порога до кухни. Русская печка прикрыта выглаженной ситцевой занавеской в синих васильках и солнечных ромашках. К обеденному столу в комнате был приставлен столик из кухни, оба придвинуты к кровати, на которой будут сидеть приглашенные. С противоположной стороны стола скамья была сооружена из длинной толстой доски, принесенной из сарая. Доска, обернутая холщовой тканью, которой обычно накрывали сундук, концами опиралась на два табурета.
На большом листе ватмана сестренки сделали веселую юбилейную газету с рисунками и воспоминаниями о десяти годах жизни младшего брата.
Красный угол был украшен белоснежным рушником. Пресвятая Богородица, державшая на коленях Младенца, казалось, сегодня взирала на мир с особенной радостью. На столе стояли в больших фаянсовых тарелках соленые огурцы, масляно поблескивали маринованные грибы, аппетитно пахла квашеная капуста, искрилась моченая брусника, поджаристой корочкой манила еще горячая курица, подрагивал любимый Мишкин холодец. Из кухни доносился запах еще какой-то готовящейся вкуснятины. Ждать никого не пришлось. Одноклассники собрались точно к назначенному времени, расселись вокруг стола. Мишку посадили в красный угол под божницу, мать села с краю, чтобы легче было выходить на кухню.
Подарков оказалась целая гора! Кто-то принес книжку, кто-то красивую открытку, два брата, Вовка и Гошка – две беличьи шкурки. Но мамин подарок был лучшим, она подарила Мишке настоящий солдатский ремень с тяжелой латунной бляхой и большой звездой на ней. Можно было догадаться, каких трудов стоило матери раздобыть такую бесценную красоту.
Сначала все сидели тихо, потом по очереди пожелали Мишке здоровья и хороших оценок в школе, после чего начал разгораться галдеж, некоторые гости переговаривались слишком громко, кто-то, наконец, попросил Мишку прочесть стихотворение. Когда он закончил словами «Хорошая Родина есть у ребят, и лучше той Родины нет», все закричали «ура» и отпили из стаканов морс.
Веселье продолжалось на улице, где долго катались на санках и кидались снежками. Мишка, ощущая себя теперь взрослым, умудренным жизнью человеком, в особо шумных дурачествах участия не принимал. Но все равно пришел домой затемно. Мама прижала к себе сына и с непонятной Мишке гордостью и надеждой прошептала: «Какой же ты у меня большой!»
Перед сном Мишка долго обдумывал свое новое качество, которому должно соответствовать и новое поведение. Мысленно он вычеркнул из своей грядущей жизни детские игры, обидные слова, плохие оценки. И впервые задумался, как же он будет помогать маме, какие ее заботы и хлопоты переложит на свои плечи, еще такие хрупкие, но все-таки уже мужские…
Пионерский галстук
В тайге дорог мало. По сегодняшним меркам их и дорогами назвать трудно. Грунтовые. Проехать можно только в сухую погоду, чуть дождик, все раскисает, пути нет.
Другое дело река. И летом, и зимой безропотно принимает на себя любую ношу. Деревню Погодаева и Нижне-Илимск разделяет река Илим. Во времена моего детства моста здесь не было. Конечно, хорошо, если был бы мост, но если его нет, надо искать другой путь. Мы, погодаевские дети, с первого по десятый класс учились в школе райцентра. Давно закрыли нашу деревенскую школу, видимо, учи́теля подобрать не могли. Пока тепло, переправлялись через реку на лодках, а зимой – по ледку пешком в школу ходили. Только два раза в году не могли перебраться через Илим. Осенью, в начале ноября, река покрывалась шугой, возле берегов, где помельче и течение потише, образовывалась наледь, а русло долго не могло угомониться. Бывало, по неделе бурлил Илим, встревоженный близкими холодами. Приходилось ждать, когда лед его утихомирит.
Весной, в начале мая, начинался ледоход, тоже не минутное дело, частенько заторы на реке случались, а с ними наводнения. Недели две уходило, чтобы река очистилась.
Вот в такое время все погодаевские ученики перебирались на жительство в Нижне-Илимск. Каждый по-своему: кто к родне, кто к знакомым. Только первоклашек оставляли дома.
Мама тоже договаривалась о моем постое. Как ни было трудно, какие-то продукты собирала и денежки мне давала на лакомства.
Пару дней на новом месте все было в диковинку, о доме забывалось. Но потом нападала тоска, и в свободные часы я шатался по берегу, с надеждой смотрел на реку, когда же ей полегчает. Любовался издали родной деревней.
Перед 7 ноября, перед праздником Великого Октября, как его официально называли, меня торжественно приняли в пионеры.
После торжества я вышел из школы, как всегда направился к реке, дошел до скобяного магазина и огорчился, видя, что по-прежнему по реке шла шуга. Домой теперь можно попасть только по льду. А когда он установится и окрепнет? Как же мне хотелось порадовать мать, предстать перед ней прямо сейчас в своем новом качестве и обличии!
Прием в пионеры был событием особым, жизненно важным. Вожатые готовили участников будущего церемониала тщательно, рассказывали о традициях, об истории пионерской организации. Мы учили наизусть пионерскую клятву. Помню и сейчас ее первые слова: «Я – вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою Родину…» Мы понимали, что стать пионером – большая честь для каждого школьника нашей великой страны. Первыми принимали отличников. А я учился на пятерки… Конечно же, был необычайно горд, оказавших в почетных первых рядах. Но даже не в этом состоял главный смысл события. С пионерским галстуком я казался себе другим человеком. Теперь я не какой-нибудь там малыш – сорванец, а – пионер! То есть – первый, показывающий пример. Я действительно показывал пример своими отличными отметками и отношением к учебе.
И так хотелось немедля всеми этими своими новыми переживаниями поделиться с матерью! Она – главный человек в моей жизни, она меня понимает лучше всех. Любит меня и радуется искренне моим успехам.
С сожалением разглядывая забитую ледовыми торосами реку, я вдруг заметил на берегу двоих мужиков. Узнал – погодаевские. В деревне все знают друг друга. Подошел, поздоровался. Мишка Солод с Ванькой Куклиным готовили лодку к переправе. Чистят снег, скалывают лед. Стою, молчу. Ванька спрашивает:
– Чего, Минька, домой хочется?
– Ага, – радостно киваю я.
– Видишь, что на реке творится, – вмешался Мишка Солод.
– Вижу. А вы-то переправляться будете?
– Будем. Домой надо, сейчас не переправишься, дня на два застрянем, если не больше.
– И я домой хочу.
– Чего забыл дома-то? – подтрунивал Солод.
– Да ничего не забыл, к маме хочется.
– Ты уж большой, соска не нужна.
– Я лекарства матери достал, – соврал я.
– Я видел твою мать позавчера, какой-то вялой она была, – это уже Ванька ввязался в разговор.
– Ты что, хочешь взять его? – рявкнул Солод.
– Ну а чего, где двое, там и трое могут уместиться.
Мишка покрутил пальцем у виска и послал меня с Ванькой далеко-далеко. Я молчал, глядя жалобно и с надеждой.
– Да хрен с тобой, поплыли. Утонешь, сам виноват будешь, – вдруг сжалился односельчанин.
– Не утону! – закричал я, помогая толкать лодку навстречу идущей по руслу шуге.
Плывем. Не Северный морской путь, конечно. Но и у нас далеко не ледокол. Я разместился посередине лодки, на днище. Двое мужиков с кормы и с носа отталкивают шестами льдины. Скорость аховая – метр вперед, два назад. Льдины ускоряются течением, наползают одна на другую, толкают наше суденышко в борта, лодка кренится и, кажется, вот-вот перевернется. Смотрю на берег. Он уже полон сочувствующих зрителей. Вся деревня следит за нашим рисковым плаванием. Помочь все равно нечем: спасательных катеров в деревне не было, да если бы и были, какой прок. У некоторых бинокли в руках. Мы подобрались поближе, и я узнал в толпе мать. Ей уже сказали, что я тоже в лодке. Около двух часов добирались до берега вместо двадцати минут по нормальной воде.
Едва ступили на берег, мать с причитаниями хватает меня за руку, ощупывает – целый ли, сухой ли – и быстро тащит домой. Я все повторяю: «Мама, мама, меня в пионеры приняли…» Но она вроде как не слышит, не отвечает. Только уже дома, когда я снял фуфайку и явился во всей пионерской красе – в белой рубашке с красным галстуком, она оглядела меня, кивнула, но так ничего и не сказала. Только украдкой отерла слезы из своих пронзительно голубых глаз. Я не понял их причины. Резонно рассуждая: могла, конечно, лодка перевернуться. Но ведь не перевернулась! Сейчас думаю, тогда, наверное, мое страстное желание порадовать мать спасло нас троих. Еще неизвестно, Ванька с Мишкой добрались бы благополучно без меня?
Утро встретило меня солнцем, его лучи буквально рассыпались по моему одеялу. В доме стоял запах свежевыпеченного хлеба. Чудный аромат луговых трав, цветов, парного молока, запах хлеба – все это окружало меня.
– Мама! – восторженно кричу я, выглядывая из-за занавески на русской печке.
Недовольный кот Васька уходит от моего громкого восторга и прячется за трубой. Я слетаю с печки, но дома тишина, никого нет. Только на столе прикрытые полотняным полотенцем круглые ароматные буханки хлеба и кружка с парным молоком.
Понимаю, мама на колхозном скотном дворе. У коров не бывает праздников, за ними нужен постоянный уход, каждый день.
Я ем хлеб и запиваю парным молоком.
И тут замечаю свою белую рубашку, аккуратно разложенную на спинке единственного в доме стула, постиранную и поглаженную, а сверху красный пионерский галстук.
Когда же она все успела!? И почему не сказала вчера ни единого ругательного слова за тот смертоносный мой «подвиг»?
Только сейчас я в полной мере осознаю великую мудрость моей мамы. Ее молчание было более действенным укором мне, чем наказание. Жаль, что так коротка была наша с ней жизнь. Хотя нет, я не прав. Когда мне плохо, я разговариваю с ней, и она мне что-то советует, пытается защитить от невзгод. Так происходит всегда, когда я прошу ее о помощи.
Малая родина
На уроке литературы Валентина Ивановна объясняла ученикам, что такое «малая родина», приводила много примеров из жизни великих русских писателей. В конце урока она попросила учеников дома поразмышлять о своей малой родине и написать об этом сочинение.
Мишка Карнаухов и Колька Букин вышли из школы вместе, обсуждая задание.
– Мишка, ты о чем будешь писать?
– Как о чем? О малой родине, конечно.
– Ты родился в Кеуле?
– Да.
– Значит, там твоя малая родина и есть. Она там, где человек родился.
– А может, там, где человек провел свое детство? Где вырос? Я же не помню Кеуля, слишком был маленький. Что о нем писать? Напишу о деревне Погодаевой, о Нижне-Илимске.
– А Нижне-Илимск при чем?
– А при том, Коля, что наша деревня и село на том берегу – единое целое.
– Придумываешь, Мишка.
– Ничего не придумываю. Обыкновенная география.
Райцентр Нижне-Илимск, что был расположен через реку, погодаевским мальчишкам казался настоящим городом. Там были все условия для интересной и удобной жизни: две школы, три библиотеки, Дом культуры, больница, аптека, пекарня и чайная, баня и несколько магазинов. А главное, там было радио и электричество – невидальщина для многих окрестных деревень. И еще там были настоящие «высотные», как они представлялись ребятам, двухэтажные дома. Среди них самым красивым было здание начальной школы, построенное в начале XX века. Светлое, просторное, с диковинными элементами старого внутреннего убранства, оно уже одним своим видом утверждало: учение – это не только труд, это удовольствие, это радость.
В другой школе – средней, тоже двухэтажной, просторной и удобной, ребята проводили все свое время, и учебное, и свободное. Деревня, где стоял Мишкин дом, как бы сейчас сказали, была спальным районом. А вся самая интересная жизнь проходила в селе Нижне-Илимск.
В школу и по другим делам из деревни в райцентр добирались на лодках – «шитиках». Нижне-Илимск, по сути, был селом по своей малонаселенности, патриархальности, еще сохранившемуся старому жизненному укладу, но в то же время и городом – с диковинными заведениями и социальными услугами. Блаженством было посидеть здесь в чайной, поесть макарон, попить чаю. А потом пройтись по улицам. По сторонам деревянные тротуары, мостики через овражки. Красота! Ни в одной деревне не увидишь такого.
Нижне-Илимск – центр притяжения всей таежной округи. Отсюда летали самолеты в Иркутск и в другие города. Летом по Илиму лошади тянули лодки-баркасы, они шли даже с низовьев Ангары. Многие пути-дороги сходились и расходились в Нижне-Илимске, они манили романтикой дальних странствий, новых открытий и встреч.
А может, Колька прав, малая родина не там, где живешь, а там, где родился? Деревня Погодаева тоже хороша. Вокруг нее плодородные поля, душистые сенокосы, ягодная тайга. Тут мое детство проходит. Но и в райцентре мое детство проходит. Здесь школа, ребята, учителя, мои первые открытия. Так где же она – малая родина? Что я напишу в сочинении? Нет, я точно знаю, что моя малая родина – весь Илимский край, куда вмещается моя жизнь со всеми ее связями, поездками, лесами и полями, птицами и зверьем, ягодами и грибами, горестями и радостями, которые трудно пережить в одиночку. Да, все это, от горизонта до горизонта – моя малая родина – великое четырехмерное пространство, которое умещается в моем сердце.
Так Мишка и написал в своем сочинении.
Самая красивая деревня
В конце августа Павел Погодаев с Мишкой Карнауховым поднимали пары́ на крутом склоне Красного Яра. Трактор был старенький, часто ломался, и постоянные ремонты не добавляли ему лошадиных сил. Даже свежая покраска не могла скрыть почтенного возраста железного коня. Поднимаясь вверх по склону, трактор надрывно тарахтел и неравномерно трясся. Мишке было поручено регулировать глубину пахоты лемехами. Работа не спорилась. Приходилось часто останавливаться, глушить перегревающийся движок. Однако и передышки не помогали.
– Да, такими темпами ничего не заработаешь, – возмущался Павел.
Это был высокий крепкий мужик лет тридцати пяти. Несмотря на фронтовое ранение, от которого левая его рука осталась на веки вечные согнутой калачом, в солдатской гимнастерке и кирзовых сапогах он выглядел красавцем. Казалось, все по плечу этому бравому трактористу, и поле он вспашет быстро и легко.
Мишка, пятнадцатилетний подросток, вынужденный больше бегать за трактором, чем сидеть на плуге, был заметно утомлен и ничего не отвечал.
– Чего молчишь, негритенок?
Ответа не последовало.
К обеду заметно устали оба – и Павел, и Мишка.
– Пойдем перекусим? – предложил Павел.
– Куда пойдем-то?
– Лучше всего спуститься к Илиму, искупнулись бы. Но далековато. Пойдем к обрыву. Посидим, природой полюбуемся…
– Сил нету, Павел, я здесь останусь, – промямлил Мишка.
– Не хнычь, пошли, вдвоем веселее. Я помогу тебе.
Мишка нехотя поплелся за трактористом. Миновав солнечную полянку, они вышли к обрыву, на краю которого чьей-то заботливой рукой вокруг стола, сколоченного из неструганных досок, были расставлены чурки. На них и расположился экипаж «машины боевой».
– Вот видишь, Михаил, какой у нас уют, с такой удобной мебелью. Иди сюда, плесну тебе воды из бутылки. Умойся, сотри пыль с лица. Сразу легче станет. Ну вот и отлично. Жаль, девок поблизости нет, а то бы увидели, какой ты парень красивый. Мне тоже плесни. Эх, хороша водичка! Еще немного…
Труженики разложили на столе свои припасы и приступили к еде. Жевали молча, прихлебывая холодный чай. К концу трапезы Павел с сожалением вздохнул:
– Вот бы сейчас настоящего чайку, с костра.
– Для этого, Паша, котелок нужен и заварка, – резонно ответил Мишка.
– Заварки-то вокруг много, вон сколько вокруг ароматных травок растет. А насчет котелка ты прав.
Павел закурил, ловко выпустил несколько ровных колечек дыма, а потом, глядя со стометровой высоты Красного Яра на родную деревню, с потаенной грустью и нескрываемым восторгом сказал:
– Красота-то какая! Ты погляди, погляди, Мишка.
– Ну какая там красота? Лес без конца и края да наша крохотная деревня вдоль Илима, – без радости в голосе констатировал Мишка.
– Да ну тебя, Мишка. Неужели благодати не видишь? Посмотри, посмотри! Да обернись же ты!
Мишка повернул голову и увидел, как далеко внизу вдоль Илима вытянулась ниточка домов, примостившихся на высоком угоре. От каждого дома к реке сбегала тропинка, упиравшаяся в лав-ницу. Под угором, как опята, кустились серенькие баньки.
Павел понял по безразличному Мишкиному выражению лица, что не убедил парня, не достучался до его сердца.
– Эх, Мишка, поверь мне на слово, такой красоты нет на всем белом свете. А уж повидал я городов и весей немало. Бывало, в передышках между боями закрою глаза и вижу наши избы, что стоят вдоль Илима. Ставенки голубые, как ясные глазки, смотрят на юг, на солнце. Наличники белые, резные, строгих линий. Резьба делает небогатые домики наряднее, легче. Казалось, в таких сказочных домиках и жизнь легкая, сказочная. Вот так вспомнишь перед боем родное, и сердце смелостью наполняется, уверенностью в том, что вернусь живым. Сколько раз спасала меня эта красота от смерти…
– Павел, ты сам говоришь, что столько повидал, неужели не встречал мест покрасивее?
– Почему не встречал? Встречал. Но краше нашего все равно нету, точно тебе говорю. Родная земля – она самая красивая. Здесь родился, в школу пошел, семьей обзавелся. Каждый уголок, каждый кустик знаю. А вон посмотри, видишь, где деревня Игнатьева?
Павел повел рукой в сторону дальней сопки. Около нее виднелись дома, составляющие несколько улиц, параллельных реке.



