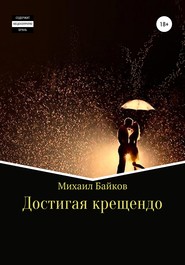 Полная версия
Полная версияДостигая крещендо
Возвращался домой я уже в сумерках майской ночи. Хрущевки окружали мой путь, лишенный романтики. Дикий день, лишенный настоящего смысла… Все окна светились, и были видны фигурки копошащихся взрослых, играющих детей, и напряженно всматривающихся вдаль стариков, ожидавших неминуемого… Я шел обычным для себя быстрым шагом, во дворах еще сидели шумные компании бездарно расслаблявшихся людей. Проходил мимо местного храма.
«Вот так и прошел день, Господи, – усмехнулся я про себя, останавливаясь напротив ворот в церковь. – Как–то все очень уныло и не внушает надежды, Тебе не кажется? Давай как–то это исправлять…»
Я аккуратно и едва заметно перекрестился, продолжая: «Помоги тем, кто сегодня «отдыхает» и празднует окончание учебы, помоги им избежать неприятностей и ошибок, подскажи каждому правильные решения. Помоги попасть всем желающим в десятый класс. Спасибо за сегодняшний день, сделай так, чтобы я не был таким, как они. Аминь».
6
Лето получилось очень коротким. Из–за экзаменов, выпускных, подачи документов в 10 класс, споров о неправильном аттестате (я все еще помню о нем) на отдых в классическом понимании осталось только два и то неполных месяца…
Одну часть лета я провел на даче, занимаясь увлекательным и полезным сельским хозяйством, читая книги и пытаясь писать какие–то рассказики. Я совсем недавно открыл в себе склонность к писательству, хотя моя натура, казалось, располагала к этому всегда. Я любил наблюдать за людьми и делал это постоянно – в транспорте, магазине, школе, на концертах и спектаклях, даже богослужениях. Это было весело и забавно. В какой–то момент, под влиянием определенных людей, с которыми меня связывали самые теплые отношения, я опробовал перо. По свидетельствам некоторых лиц вышло прилично и даже здорово для четырнадцатилетнего подростка. А меня лишь стоит похвалить и все – талантом заполняется душа и мысли только о совершенствовании себя на этом поприще. Короче, хорош литературный путь. Только поэзию я не любил, но жизнь подтолкнула и к этому искусству – дурно или нет, судите сами, но позже…
В деревне всегда уютно, тепло и радостно – с собакой можно повеселиться, с соседскими козликами. Курицу с дедушкой нашли, заблудившуюся, и, разумеется, приютили, обогрели, откормили. Даже летать начала, правда, может быть, вполне вероятно, не от куриного счастья…
Гораздо интереснее и благочестивее моего выпускного было такое же мероприятие в семинарии Лимской епархии. Мой дедушка с благолепной для этой среды фамилией являлся уважаемым всеми преподавателем церковного пения – дисциплина, через которую проходили все пастыри, даже не имевшие природных данных, но вынужденные изрекать из себя нестройные звуки песнопений. Эту школу проходил каждый, и потому мой дедушка был узнаваем всеми священнослужителями, благодарными за постановку голоса и просто доброе и юморное отношение к студентам.
Церковь, как организация, всегда притягивала меня. Множество учебной, публицистической и художественной литературы окружало мое детство, и я рос в библиотечной атмосфере, с аппетитом поглощая качественно отобранные шедевры – это выработало эстетический вкус, интерес к истории и искусству, а также послужило подспорьем для формирования снобистской личности с запредельным цинизмом, иронией и самомнением… Однако, при всем таком «неблагоприятном влиянии» преподавательской интеллигенции XXI века, в меня была вложена та частичка связи с вечной истинной Веры, что все мои слабости жестокого человека перечеркивались внутренней добротой, глубокой способностью к состраданию, обостренным чувством справедливости, залихватским благородством и другими нравственными качествами, исключая, как видите, скромность…
Вся семья имела отношение к Церкви – преподавали, служили, пели, – и я не прошел мимо, в будущем посвятив себя служению этой единственной Истине. Говорить о жизни в Боге с литературной точки зрения не так интересно, как описывать путь человека к Богу – сразу появляется упрощенность миропонимания и рассуждение на излишне профессиональные темы, понятные лишь причастному… Поэтому с таких позиций моя жизнь, как часть литературного достояния, мало привлекательна, ведь я без критики и томительного анализа принял в себя это простую философию, ведь по Учению Двенадцати Апостолов есть два пути – путь жизни и путь смерти. Первый путь строится на трех заповедях – любви к Богу, любви к ближнему, как с самому себе и отношении к людям также, как хотелось бы отношения к себе. Это простая мораль, где каждый атеист–скептик может заменить «любовь к Богу» любовью к природе и окружающему миру, при том остальные установки более чем правильны, человеколюбивы и приемлемы для Настоящего человека, даже в Бога не верящего.
И все же кроме такой примитивной философии (ее присутствие оградило меня от проблем подростка, когда амбиции хотят всего, но обстоятельства губят любую инициативу), я с благоговением принимал другую сторону веры – посещение храма. Постоянно мною овладевало состояние умиротворения и покоя, когда стройными голосами возносились молитвы и грамотный хор пользовался удивительными распевами, стройно переливающимися под куполом. И не говорю уже о волшебной поэтичности, архитектурно сопровождающей русские храмы, каждый из которых смотрится настолько уверенно на своей земле, что действительно представляется оплотом и домом для нуждающейся души.
Выпускные семинарии тоже обладали торжественностью, размеренностью и светлым благодатным весельем православного человека. Радующиеся бакалавры–богословы с непривычно умными для студентов лицами и вдумчивыми взглядами, отстаивали последнюю для себя службу в семинарском храме, несомненно, размышляя о пролетевших годах обучения. Выслушивали наставление правящего архиерея, шли в трапезную, где в мягкой обстановке болтали друг с другом, своими приехавшими родственниками, преподавателями просто друзьями и младшими коллегами, и воодушевленные последними пятью часами поднимались в актовый зал, получали дипломы, делали фотографии и давали камерный концерт, демонстрируя главный инструмент миссионерского влияния – голос.
В такие дни, видя эти счастливые лица с добрыми улыбками и во многом наивными умами, меня захватывало стремление стать достойной частью этого мира…
Другой важной частью моей жизни была музыка. Моя семья с ней также была неразрывна связана, из–за меня обрекли на учебу в общеобразовательном учреждении, важной частью которого было музыкальное отделение – признаться честно, весьма и весьма сюрреалистическая структура.
Музыка в школе – это абсолютно удивительный мир со странностями, бредовыми решениями и вечным восприятием учителями себя и своего предмета центром Вселенной. Бесило меня всегда это очень знатно, а потому при всех своих врожденных музыкальных талантах наиболее полно мне удалось развить только голос (и то из–за личного рвения). Да, я играл на фортепиано, но скорее мой стиль можно было назвать игрой на «пианине». Если честно, меня заставляли – я всю жизнь мечтал учиться играть на скрипке и, наверное, из меня бы вышел толк. Лишь благодаря собственной настойчивости мне удалось заполучить этот великолепный инструмент и заиграть на нем.
Вообще Музыка – это вершина человеческого восприятия и понимания мира путем чувств. Любой дурак может сложить из разнообразия слов стихи и прозу, а из обилия цветов и их оттенков нарисовать картину… Во всяком случае сможет убедить всех в гениальности своего абсурдного и бездарного труда, похожего даже на неумелую мазню. Но вот создать из семи нот шедевр «серому» человеку не получится. Все великое идет от Бога, а для скептиков – от Вселенной…
В стихах Пушкина, в творчестве Тютчева, в произведениях Уайльда и Толстого каждый видит совершенно неожиданные и потому гениальные решения. Следование золотому сечению в ритме поэзии; революционные, потрясающие сознание, философские находки (строчка «Анны Карениной»: «Все смешалось в доме Облонских…» – это не про бессмысленную семейную измену, а про взлом социального устройства, «дом Облонских» равно «Россия»!) – все это случайные для авторов гениальности, вложенные Свыше, которые, однако, могут находиться осмысленным путем (осмысленный символизм и Гений человека–прозы прекрасно отражается в кинематографе, а творения истинного художника поддаются логике и расчету)… И лишь Музыка, как основа жизни появившаяся вместе со Вселенной, в своей гениальности неподвластна разуму.
«В начале было Слово…» – начинается Евангелие от Иоанна, но в древнегреческом тексте стоит λόγος, переводящийся как утверждение, смысл, система. Система… Из всех искусств только Музыка живет в строгой системе звуков и при этом только Музыка создается исключительно чувствами, лишенными осмысленной математики. Не случайно Баха называют «пятым Евангелистом», потому как глубина и поражающая воображение структура его сочинений делают с человеком невероятное (можно долго на примере его произведений вести богословские споры на тему метаний человека между Богом и Дьяволом, Светом и Тьмой, Добром и Злом).
А Бетховен? Посвящает «Лунную сонату», со всеми тремя частями сонатной формы, волшебному и действительно единственному божественному чувству – Любви. В этой сонате и терзания, и страдания, и депрессия, и ностальгия, и принятие, и захоронение своего чувства, лишенного перспектив… Самыми тонкими и несчастными оракулами Любви в мире Абсолютной музыки был именно рыцарь–Бетховен с мужской суровостью и с мужской же романтичностью, а также сентиментальный (и в этом гениальный) Шопен – такое понимание Любви через Музыку, как и все понимание мира, не было плодом человеческого разума, а лишь продуктом чувств, появившихся не от мира сего………
Так вот. Все это великолепие, вся эта сладость и удивительная сила Музыки, как способа общения Бога с абсолютно любым человеком, – все в моей школе забывалось. Вряд ли в этом виноваты педагоги–музыканты – и среди них было много людей с чистой любовью к этому искусству, – но уставшие и потерявшие огонь педагогики–пенсионеры точно не могут вложить в неокрепшие умы семилеток уважение и благоговение… Только Музыка может воспитать человеколюбие. Школьная же «самодеятельность», по какой–то непонятной причине навязываемая всем желающим и нежелающим, была очень комична и откровенно, хоть и незаслуженно, многими презираемая… Но все равно, как в минуты легкого счастья хочется петь, так и в минуты тяжелых раздумий и редкой душевной радости хочется подойти к музыкальному инструменту…
***Также мне удалось съездить в Восточную Европу. Моя любовь к изучению людей и внимание к мелочам архитектуры и природы сыграли большую роль в формировании впечатлений. Ничего примечательного для сюжета в ней не было, но как вкусный факт жизни она показала себя безумно прекрасно. Расскажу маленький эпизодик…
Я, обожающий архитектурные ансамбли городов, гулял по самому центру чистого, светлого, ухоженного города Минска в гордом одиночестве. Делал фотографии, смотрел на людей, слушал некоторые разговоры…
Дошел до Администрации Президента. Классическое здание постсоветской бюрократии с абсолютной симметрией и полным единообразием. Как такое не запечатлеть? Направляю камеру, делаю несколько снимков, вожусь минуты две… Вдруг ко мне направляется какой–то мужчина.
– Молодой человек, что вы здесь делаете? – грубовато звучит.
– Гуляю, фотографирую… – немного замешкался я.
– Дайте телефон, – грозно требует он.
– С какой стати? Вы вообще кто такой, мужчина? – спрашиваю я на удивление самоуверенным голосом, хотя внутренний параноик (я подросток в чужой стране, а где в это время родственники не особо ясно) уже вознесся в Лимск, забежал домой и накрылся одеялом в постели.
– Покажите–ка лучше ваши документы… – мерзко говорит он, полностью уверенный в своих силах. Смотрел на меня, как будто подобное происходит постоянно.
Я не стал сопротивляться, поняв, что все относительно законно, и протянул ему свой паспорт в обложке. Когда паспорт был открыт, лицо гэбиста медленно расплылось в кислой гримасе. Гражданство РФ сильно расстроило его. А то, что я несовершеннолетний, и вовсе разочаровало.
– Фотографии удалите, пожалуйста, – тихонько и вежливо проронил он, но голос оставался металлическим, а взгляд полным какой–то враждебности. –Нельзя фотографировать режимные объекты Белоруси.
Я удалил фотографии при нем (он тщательно все перепроверил из моих рук) и поспешил убраться подальше.
Так российское гражданство спасло меня от неприятностей. Люблю свою страну. Где бы ты ни был, в каком месте нашей планеты не пил какао или фотографировал домики чудной постройки, всегда есть чувство, что ты представитель огромной страны, спокойной как медведь лишь до того момента, пока ее не разбудят. Такой у меня – великодержавный шовинизм.
7
Десятый класс начинался 1 сентября, как и положено начинаться любому другому классу. Классовый подход в общеобразовательных организациях был во много раз страннее интерпретации Карла Маркса. Разделенный по непонятной системе профильного образования, лишенный половины старой гвардии, ушедшей в другие школы или техникумы, мой бывший 9 «Б» практически в равном количестве голов представлял себя в информационно–технологическом и социально–гуманитарном классе. Еще и совершенно бесполезный конкурсный отбор – зачем устраивать конкуренцию в 10 класс, если аутсайдеры все равно пожалуются начальству на ущемление своих прав и благополучно попадут в итоговые списки? Если уж устраиваете конкурс, то говорите «нет» уверено. А так – и начинать не стоит… В этом мнение мы с Артемием были едины, хотя мне с ним (а точнее ему со мной) довелось попасть в социально–гуманитарный класс под руководством Миланской даже в «первом туре» и бес скандалов. По какой–то необъяснимой причине наше с ним нахождение в одном пространстве воспринималось всеми как взрывная смесь. Удивительно…
– Так, дети, хватит на солнце греться, места занимать идите, – подошел я к своему классу.
– А поздороваться? – повернувшись, усмехнулась мне Миланская.
– Ой, Людмила Николаевна, – делая вид, что удивляюсь ее присутствием, отвечал я, добавляя с такой же обворожительной улыбкой: – Просто принял вас за новую одноклассницу!
Тут же присоединяется Артемий, бубнящий:
– У–пэ–эсы какие–то, АХТ, черти что! Учиться нормально хоть когда будем? Посмотрел в расписание, там литератур всяких, русских, и фигни другой восемь часов в неделю! Милые мои!
Справедливое возмущение от такой «филологической программы» никогда не оставляло Артемия. Он встал в жесткую оппозицию к этим достойным предметам, отчаянно не признавая безусловную пользу, которую дарил нам учитель, даже Педагог, уделявший внимание каждой мелочи и крупице нашего образования.
Еще несколько сюрпризов принес День знаний – Вячеслав Субботин перевелся к нам в школу и оказался в моем классе, а Инга и Матвей Фиолетов очутились в информационно–технологическом. Артемий сразу же со звериным оскалом хищника начал смотреть на Матвея, как не на самого социально приспособленного человека.
В один из теплых сентябрьских деньков к нам в школу приехала плановая проверка. Ее ждали и поэтому превратили обыкновенную, задрипанную несколькими неделями от уже успевших пролиться слез учеников, школу в то, чем она должна быть постоянно.
Величайшим стратегическим достижением школьной администрации того года было закрытие мужского туалета на втором этаже моего корпуса. Это сумасбродное решение мотивировали вполне объективными причинами. Отремонтированный туалет с кафельной плиткой, побитой активностью школьников, и приличным освещением выходил своими пластиковыми окнами на главную улицу города. Разумеется, ни один уважающий себя старшеклассник не мог устоять от соблазна крикнуть крепкое словцо, сопроводив его полетом какого–нибудь предмета, оскорбляющего достоинство прохожего. Поэтому «гении педагогики» посчитали правильным решением туалет запереть на замок. И пусть в этом вопросе мы пытались спорить, но с невозмутимым и непробиваемым видом нам постоянно отвечали: «Туалет на ремонте, откроем, когда все сделаем», – отвечали невозмутимо и с таким чувством гордости за этот «гениальный» ход обмана детей, будто не преподавателями были, а какими–то лживыми и закрученными на себе и своем ограниченном школой мире оборотнями…
Легко догадаться, что в день проверки ситуация изменилась кардинально.
– Как преобразилась Гимназии при Сергее Семеновиче, – говорил я на распев, заходя в класс русского языка и литературы после звонка. – Мария Леонидовна, не школа, а аттракцион какой–то, стоило из столовой выйти так сразу…
– Мама дорогая, – ворвался вслед за мной Артемий. – Вы гляньте–ка, и кулеры поставили на каждом этаже, природа так очистилась, что в туалетные кабинки вернулось мыло с туалетной бумагой…
– А самое главное, Артемий Лексеич, – подхватываю я. – Сидят внизу с документацией. Я предлагаю пробегать у них с криками «Мы голодаем!». И да, конечно же, туалет родной наконец открыли! Нашлись–таки деньги на ремонт.
– Ну да, ну да. Проверка деньги привезла, – вмешивается Мария Леонидовна, не сдерживая доброй улыбки. – Так и будете в дверях стоять или пройдете? У нас тут для вас самостоятельная!
Не любим и одновременно любим за это мы уроки у Марии Леонидовны. Уставшими не оставит, всегда будет какая–нибудь проверочная работка на десять минут, дабы и оценку получить, и настроение поднять – неизвестно, правда, кому. Но Мария Леонидовна постоянно улыбается в такие моменты…
– Опять? – мычит Артемий недовольно.
– Не опять, а снова! Листочки возьмите.
– Дай телефон, – шепчет мне Артемий и, забирая это чудо–чудесное, идет к себе на последнюю парту.
Пишем тест по литературе по образцу ЕГЭ. Рядом озабоченно пыхтит моя соседка, удивительно эмоциональный человек, заразивший этим и меня.
– Римма, – шепчу я. – Что в восьмом номере? «Как называется персонаж, упоминающийся в тексте пьесы, но не появляющийся на сцене?»
– Второстепенный? – как–то неуверенно произносит она.
Я смотрю на нее ироничным взглядом и, как оказалось, обворожительно спрашиваю:
– А не внесценический?
– Ой, не знаю, – отмахивается она.
– Ладно, доверюсь твоему авторитетному мнению, – дразню я ее просто так.
Сдавая работы, мы столкнулись с Кленовым.
– Все загуглил, пять получил, – оскалился он, тихонько отдавая телефон. – Спасибо.
– Что в восьмом?
– Внесценический какой–то…
– Так и думал, – хихикнул я.
Вернувшись на место, я шепотом (очень лицемерным шепотом), проговорил:
– Ох, Рима, Рима… – смотрю на нее уничижающим взглядом. – Подставила ты меня, ох как подставила!
Так вот незатейливо началось наше общение, природа которого до сих пор мне не ясна. Но внушаемым и поддающимся влиянию других людей существовать всегда непросто, моя же склонность к манипуляциям человеческими чувствами подвела к обрыву и научила быть мягче, но об этом потом…
После урока я случайно попал в завершающую стадию проверки. Директора в школе не было при этом торжественном моменте, поэтому роль презентующего все выдающиеся стороны школы выполняла с большим достоинством завуч Валентина Геннадьевна.
Спустившись на первый этаж к столовой, послушав параллельно крики счастливых мальчишек об открытии туалета (бездарная проверка на это глас народа не обратила внимания), я попал в длинную очередь к запертой святая–святых любой школы.
– Проверка внутри, – пояснили мне некоторые учителя, стоящие в толпе.
– Ага, сами же процесс и нарушают, – потянулся я.
Из двери вышла Валентина Геннадьевна.
– Траву покрасили для них? – участливым громким шепотом спросил у нее я.
– Так, Князев! – спокойно отвечала она, не обращая внимания на улыбки учителей. – Сходи–ка от физкультурного зала возьми ключи.
И я пошел осматривать физкультурный зал вместе с проверкой. Дверь со скрипом отворилась, долго не могли найти выключатель, а потому мне пришлось лезть незаметно в щиток, чтобы школу не посрамить. В зал впустил сначала завуча, потом проверяющую. Последней дверью чуть каблук не отломил. А так ничего интересного. «Потемкинские деревни», увы, даже при системе Божесова процветали…
8
Поразительной частью жизни школы были олимпиады школьников. Эти штуки гораздо страшнее любой контрольной и экзамена для тех, кто шарит в предмете, ведь на олимпиадах постоянно приходилось доказывать свое превосходство и конкурировать с такими же умными сверстниками в глазах азартного учителя.
По объяснимой причине в мои конкуренты все единодушно записали Матвея Фиолетова и Вячеслава Субботина на три месяца. Лично они были полными моими противоположностями и, разумеется, из них Вячеслав производил более приятное впечатление осмысленного человека, не лишенного дарований, чем Фиолетов, который отталкивал отсутствием самоиронии, само же их вторжение на территорию моей гегемонии пробуждало чисто инстинктивную вражду. Хотя в Артемии недоброжелательности к обоим было гораздо больше я всего лишь мягко показывал, кто в доме хозяин, при этом улыбаясь оппонентам, а Артемий откровенно зубоскалил, хамил и троллил каждого из них, и делал это очень виртуозно.
Чисто технически, мои взаимоотношения с ними, и вообще отношение к новым людям в новом коллективе, интересная тема для социального произведения, обличающего жестокость общества и тяжесть акклиматизации. Но, честно говоря, эти люди не заслуживают повышенного внимания с моей стороны. Матвей не заслуживает из–за отсутствия в себе привлекательности и харизмы, в то время как Вячеслав, действительно обладающий приятными свойствами, просто неважен для моей основной истории. Скажу о нем только одно – будучи человеком умным и наивно целеустремленным (местами даже романтичным), он вынужден был посоперничать со мною, проиграв мне в успеваемости и успехах на всех уровнях олимпиад по истории, искусству, праву. Хоть на самом деле, Вячеслав разбирался в этом лучше меня, просто ему не хватало терпения и умения приспосабливаться к требованиям – оппортунистическим лицемерием я обладал в непревзойденном совершенстве с малых лет… Я люблю людей, поэтому совершенно спокойно здоровался с ним и улыбался при разговоре. Положительная энергия в нем точно присутствовала. А вот Матвей был непробиваемым. «Дебил» – как говорил о нем нараспев Кленов, хоть мое человеколюбивое сознание было против такой оценки.
1 октября был школьный этап олимпиады по литературе. Четыре урока анализа высокоморального и остросоциального текста или простенького стихотворения и творческое задание по составлению сборника произведений литературы, в которых фигурировала музыка. Как всегда муторно, но пропущенные по уважительной причине уроки математики того стоили.
Артемий на такие мероприятия не ходил – гордость не позволяла заниматься анализом литературы. Поэтому Буднин заменял мне его общество. Просидев два часа, проанализировав какой–то рассказик Ивана Бунина о судьбах загнивающей дворянской России, мы с ним переглянулись и вышли из кабинета.
– Ну, что? – спросил он меня.
– Что, что? Подождем наших девочек. Времени еще много.
– Саш, может кофе пойдем попьем?
– Да подожди. У нас обществознание и физкультура потом. Что у вас с Ингой?
– Литература и физра.
– Ну, видишь. На литературе уже отсидели, физкультуру прогулять не грех, подождем, а дальше в Мак пойдем.
Неуклюжей походкой из кабинета выполз Фиолетов. Мы перемигнулись с Будниным, желая как–то подшутить.
– И как, Матвей? Все написал?
– Да это очень просто. Писать практически нечего, – самоуверенно ответил он.
– Значит, ничего не написал? – хищно оскалился я.
– Все написал, – не понимая шутки, отвечал он невозмутимо. – Правда терпеть не могу литературу современную, бездарности. Выродилась истинная художественность образов! – потряс он рукой, скрасив это голосовой интонацией знатока жизни, которую Артемий описал как «Ленина застал молодым».
– Вы, Матвей, здесь не правы, – елейно начал я. – Литература постоянно развивается… Вот за мной есть такой недостаток – совершенно не знаю писателей XXI века, ни одной книжки не читал. При этом их бездарными не считаю и даже смею сам писать странные истории, надеясь на успех. А вот воспитан я на классике и возможно поэтому обладаю хорошим вкусом, хоть бэкграунда и маловато… Но не стоит думать, что все так просто. Нынешние дети часто любят пошловатую литературу, считая классику умершей. Это печально, ведь только цельное знание о литературе, как социальном явлении, воспитает настоящего человека.
Буднин смотрел на меня, давая понять, что я зашел не в ту сторону, но, к счастью, нить потерял и Фиолетов.
– Да, молодежь сейчас такая… Пойду я на урок.
– Молодежь, – фыркнул я ему вслед. – Сам–то с таких позиций говорит, будто отсидел кремлевским старцем восьмую пятилетку…

