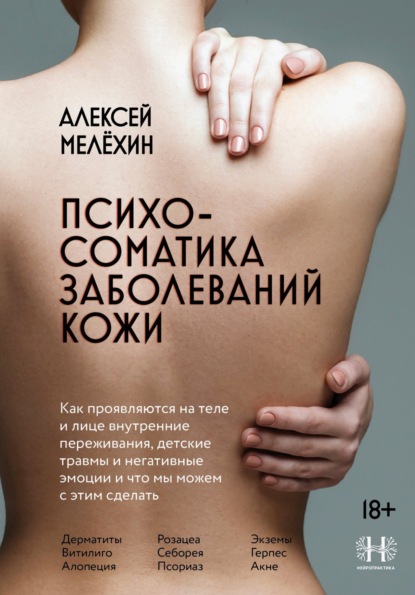
Полная версия:
Психосоматика заболеваний кожи
Что касается депрессии, сопровождающейся или не сопровождающейся тревогой и различными функциональными расстройствами, в ряде публикаций указывается, что она возникает у 40 % пациентов с заболеваниями кожи. У людей, страдающих угревой сыпью, злокачественной меланомой, атопическим дерматитом, псориазом, наблюдаются высокие показатели депрессии и тревоги. Кроме того, если мы сравним людей, страдающих кожными заболеваниями, и тех, кто страдает другими соматическими заболеваниями, которые считаются более серьезными, то обнаружим, что у пациентов с псориазом наблюдаются самые высокие показатели депрессии, сразу за ними следуют пациенты с хроническими угрями на лице, плечах и области декольте. Показатели распространенности истинных суицидальных мыслей, обнаруживаемые у больных псориазом и угревой сыпью, выше, чем у пациентов с другими хроническими соматическими заболеваниями, которые считаются более серьезными.
Концепция психосоматической медицины, которая подчеркивает глубокую связь между психологическими процессами и соматическими симптомами, служит основополагающим элементом этого исследования. Исторически сложилось так, что эта область исследований охватывала широкий спектр состояний, при которых психические и эмоциональные факторы существенно влияют на физическое здоровье. В дерматологии эта взаимосвязь особенно актуальна, учитывая очевидный и часто стигматизируемый характер кожных заболеваний. Психодерматологическая парадигма расширяет это понимание, утверждая, что кожные заболевания могут как зависеть от психологических состояний, так и служить источником значительного психологического стресса.
Исследуя психосоматические аспекты сопутствующих патологий, мы выявили сложные механизмы, посредством которых психологический стресс может провоцировать или усугублять физические недуги, включая кожные заболевания.
Первые психоаналитические наблюдения за пациентами с экземой были сделаны Р. Шпицем в 1974 г. Он отмечает, что младенцы, страдающие экземой, не испытывают беспокойства, тревоги на восьмом месяце жизни. Автор определяет последнее как тревогу ребенка по поводу потери матери в тот момент, когда примерно в восьмимесячном возрасте он осознает, что отличается от нее. Мы можем дать другую интерпретацию этого: тревога восьмимесячных – это не тоска по потере матери, а тоска по себе. С одной стороны, это чувство достигает апогея, когда мать оказывается в поле зрения младенца одновременно с незнакомцем, а с другой стороны, тоска возникает, когда ребенок делает шаг в сторону. Он ходит взад и вперед между двумя лицами и таким образом замечает разницу. До опыта с зеркалом у ребенка еще нет лица, у него есть лицо его матери, которое возвращает ему иллюзию идентичности, недифференцированности. У так называемой «аллергической» личности все лица, с которыми она взаимодействует, приравниваются к единственному, неповторимому лицу – матери, не возникает дифференциации.
Кожа является частью этого набора психологических функций наравне с двигательными навыками и сном. Необходимо больше учитывать физиологические реальности, поскольку они организованы историей отношений человека и, таким образом, могут быть объектом потенциальной интерпретации/значения. В нем рассматривается понятие ритма ребенка, имеющего свои собственные ритмы развития, которые необходимо очень быстро согласовать с окружающими, до такой степени, что часто бывает трудно отличить один от другого. Мы объясняем раннюю кожную соматизацию неспособностью ребенка организовать собственный телесный опыт из-за противоречия с окружающими. В возрасте трех месяцев ребенку, страдающему атопическим дерматитом, будет трудно жить в теле, которое ему действительно принадлежит. В ряде исследований сравнивали детей с экземой и без кожных проявлений. Первые испытывают трудности с построением своего эмоционального опыта из-за того, что их матерям трудно переживать и идентифицировать свои собственные эмоции или эмоции своего ребенка, а также общаться с ними при регулярном телесном контакте. Эти младенцы приобретают циркадные ритмы (ритмы день/ночь) раньше, чем другие, что свидетельствует о том, что у таких детей есть склонность быстрее приспосабливаться к ритму общественной жизни. Последующие наблюдения показали развитие у них преждевременного «телесного Сверх-Я» из-за пренебрежительного отношения к признанию конкретных потребностей. Эта слишком быстрая адаптация к окружающему может послужить причиной предрасположенности к соматической патологии и привести к тому, что ребенок перестанет узнавать себя и в итоге свою личность в угоду реалиям взрослых.
Ритмы могут быть источником нашего представления о собственном теле через непрерывное движение к стабильности и прочности, что приводит к разрыву. Любое слишком раннее подчинение ритму, который не является его собственным, может нарушить у ребенка способность распознавать и идентифицировать свой неповторимый ритм и, следовательно, свое собственное тело, ядро его первого чувства идентичности, что может проявиться в трудностях в построении его психологического ритма. В повседневной практике мы видим, что такие люди плохо распознают усталость, трудно понимают, когда они хотят спать (путают сонливость с усталостью), есть.
Последнее время выделяют понятие кожно-психических расстройств (psychocutaneous disorders). Пациенты сообщали о широком спектре эмоциональных воздействий, включая чувство тревоги, депрессии и стыда. Один из пациентов сказал: «Это похоже на цикл – чем больше я испытываю стресс, тем хуже становится моя кожа, и чем хуже становится моя кожа, тем больше я испытываю стресс». Подчеркивается ощутимое влияние стресса на состояние кожи, и многие отмечали обострения и зуд как особенно неприятные.
Механизмы преодоления стресса у людей с кожными расстройствами сильно различались: некоторые находили утешение в методах борьбы со стрессом, в то время как другие в значительной степени полагались на соблюдение режима приема лекарств.
Это оказало глубокое влияние на повседневную жизнь, и одна из моих пациенток как-то отметила: «Моя кожа определяет одежду, которую я ношу, мероприятия, которые я посещаю, и даже работу, на которую я претендую». Многие пациенты признали прямую связь между стрессом и состоянием кожи, указав на четкую взаимосвязь между их эмоциональным состоянием и физическими симптомами. Однако уровень осведомленности и понимания по сей день разный, и некоторые пациенты выражали разочарование из-за отсутствия четкой информации. Взаимодействие с врачами имеет решающее значение, и один из пациентов, мне как-то сказал: «Когда мой врач нашел время, чтобы по-настоящему объяснить ситуацию, я почувствовал в себе силы лучше справляться со своим состоянием». Социальная поддержка стала важнейшим средством защиты от психологических последствий кожных заболеваний, однако, как посетовал один мой пациент: «Не все понимают, каково это. Иногда отсутствие понимания почти так же плохо, как и само заболевание».
Факторы стресса, способствующие возникновению кожных заболеваний, варьировались от стресса на работе до личных отношений, а эмоциональные реакции вызывали широкий спектр чувств – от страха осуждения до оптимизма. Воздействие на психическое здоровье было значительным, и часто распространены такие факторы, как тревожный спектр расстройств и депрессии. Появляются исследования о жизнестойкости (психологической устойчивости) и психологической адаптации, демонстрирующие силу, которую многие пациенты находят в себе, столкнувшись со своим состоянием. Один из пациентов поделился: «Потребовалось время, но я научился воспринимать состояние своей кожи как всего лишь одну из составляющих того, кто я есть, а не как определяющую». Стигматизация и дискриминация, с которыми сталкиваются люди с видимыми кожными заболеваниями, являются постоянной темой, и многие выступают за повышение осведомленности и понимания общественности. Экономические последствия также были значительными, поскольку стоимость лечения и потенциальные проблемы с трудоустройством создают дополнительные факторы стресса.
Невидимая психическая структура – Я-КОЖА
Психодерматология занимает особое место в медицине, так как занимается исследованием связи между кожей и психикой. Дерма, или кожа, и психика не только имеют общее эмбриологическое происхождение, но и тесно взаимосвязаны функционально. Кожа непосредственно связана с центральной нервной системой, поскольку они обе происходят из одного и того же эмбриологического источника – эмбриональной эктодермы. Несмотря на то что у них есть общий источник происхождения, их разделение происходит постепенно. Кожа будет видна окружающим, в то время как психика останется скрытой. Специфика дерматологической соматизации у человека, в отличие от других форм, заключается в наглядности симптомов. Сама природа этого процесса соматизации основывается на привлечении внимания врача или другого значимого лица, оказывающего помощь, к поражениям кожи. В рамках психоаналитической теории связь между кожей и психики хорошо изучена. В рамках фрейдистской модели, основанной на конверсии, соматический симптом имеет символическое значение, являясь выражением некоторого подавленного психического конфликта. Тело, или сома, становится местом выражения бессознательного, вытесненного психического материала, а повреждения кожи могут иметь символическое значение, уникальное у каждого человека. Качество, состояние кожи и кожного обмена необходимо не только для нормального развития человека, но и для формирования его «Я» и образа тела.
Таким образом, кожа – это нечто большее, чем граница. Это оболочка, определяющая человека по отношению к другим. Это один из способов коммуникации, так как он привлекает внимание окружающих.
Кожный покров обеспечивает удобное расположение для отображения меток и шрамов как личных свидетельств прошлой и настоящей истории человека, его психобиографии. Их субъективное содержание может иметь значение для человека, а также вызывать внешнюю реакцию. Отметины на теле часто привлекают внимание окружающих как способ узнавания или удовлетворения нарциссических потребностей.
Природа кожных симптомов у человека сама по себе отражает ощутимые и видимые признаки боли и страдания, часто сводя к минимуму лежащую в их основе психическую боль, будь то невротического или психотического характера. Как пишет итальянский психоаналитик Фабиана Вебер, «заболевания кожи отражают молчание и крик». Действительно, кожа с ее повреждениями может стать громким криком о помощи благодаря молчаливым, но тем не менее заметным симптомам. В таких случаях кожа становится объектом пристального внимания. Более того, повреждения, как и при атопическом дерматите, обнаруживают неравномерную поверхность кожи, лишенную целостности. Пораженная область отражает несвязанность и сегментарность органа. То, что показывает кожа, с одной стороны, на самом деле является страданием, благодаря которому человек специфически существует. С другой стороны, взгляд другого человека на поврежденную кожу обладает конфронтационным свойством. Этот аспект демонстрирует глубокие нарушения в отношениях человека с кожными симптомами, а также его/ее слабую конституцию «Я». Некоторые люди с дерматологическими заболеваниями очень чувствительны к другим людям, имеют трудности в построении отношений. Они кажутся проницаемыми в общении с другими, поскольку их психический барьер остается хрупким и чувствительным. Потребность быть замеченным также удовлетворяет потребность слияния с другими людьми, поскольку «Я» таких людей обладает пористостью. «Контакт», по-видимому, является ключевым словом, лежащим в основе дерматологических проблем. Кожный орган с его способностью осязания, «осязания на ощупь» несет в себе символические значения, и повреждения, обнаруживаемые, например при атопическом дерматите, могут служить этой цели, стремясь к другому человеку, к его исцеляющему взгляду и ощущению целостности через кожу, через Я-КОЖУ.
Концепция Я-КОЖА была впервые разработана Дидье Анзье в 1974 г. Идея возникла на основе реальных функций, которые кожа выполняет в развитии человека, будь то физические, психологические или символические. Первые впечатления младенца и матери передаются через кожу, будь то грудное вскармливание, объятия или первичный уход за телом. В опыте младенца обе стороны ощущаются как единое целое, объединяющее и стимулирующее отношения. Частью нормального развития младенца является осмысление внешнего мира, осознание того, что его тело отличается от тела матери, без чувства подавленности или чрезмерного беспокойства из-за угрожающей реальности. Таким образом, кожные переживания запускают развитие Я-КОЖИ. Согласно Д. Анзье, любая психическая активность аналитически зависит от биологической функции. Кожное эго, или Я-КОЖА, находит поддержку в различных функциях кожи. Таким образом, Я-КОЖА служит психическим посредником между человеком и внешним миром. Однако если соответствующие переживания не возникают в нужный момент, структура не усваивается или, что более обычно, искажается. Первоначально Я-КОЖА является тактильной оболочкой с наслоением сонорной и обонятельно-вкусовой оболочек. Мышечная и визуальная оболочки развиваются позднее. Оболочка сновидения есть попытка заменить неполноценную тактильную оболочку визуальной, более тонкой, менее прочной, но также более чувствительной. Люди с хроническими кожными заболеваниями обладают искаженной Я-КОЖЕЙ, или кожным «Я». Существует соответствие между глубиной повреждения «Я» (нарциссическими дефектами) и глубиной поражения кожи. Прослеживается закономерность чередования приступов крапивницы и отсутствия сновидений и, наоборот, отсутствия крапивницы и возобновления тревожных сновидений, кошмаров. Я-КОЖА людей с кожными заболеваниями изрешечена дырами, образовавшимися от вторжений, которым подвергался пациент во время бодрствований. Эти дыры образуются в результате серьезной психологической травмы или вследствие накопления остаточных психологических микротравм бодрствования – развертываются в различных сценариях сновидения. Сновидения у пациентов с дерматологическими проявлениями выполняют функцию ежедневной реконструкции психической оболочки. Сновидения ткут психическую кожу, скрывают неприятный образ тела, маскирует раздраженную и содранную Я-КОЖУ человека. Еще в 1950 г. Ф. Александер предположил, что кожа, составляющая поверхность тела, является соматическим локусом эксгибиционизма. Д. Анзье утверждает, что кожные расстройства часто встречаются у нарциссических личностей для удовлетворения их потребности быть замеченными. Кожа с годами сохраняет шрамы прошлого в буквальном и символическом смыслах. Человеку, который носит на собственной коже свою прошлую историю и, следовательно, кожу, пораженную дерматозами, такими как экзема, возможно, есть что сказать внешнему миру.
Д. Анзье выделял три функции Я-КОЖИ, вдохновленные функциями кожных органов, но в данном случае на психическом уровне. Это функции удержания, или контейнирования, индивидуации и регистрации следов (значимости).
Позже, в 1985 г., Д. Анзье представил в общей сложности девять различных функций, которые выполняет Я-КОЖА.
Хотя охват и обсуждение всех этих функций выходит за рамки данной книги, важно кратко остановиться на трех из них в контексте кожных заболеваний. Из девяти различных функций Я-КОЖИ, разработанных Д. Анзье, мы сосредоточимся на тех, которые, по-видимому, наиболее актуальны для атопического дерматита и других типов дерматологических заболеваний, но также имеют непосредственное отношение к теме данной книги.
+ Контейнирование, или сдерживание. Точно так же, как кожа содержит все внутренние органы и покрывает все тело, Я-КОЖА выполняет аналогичную психическую функцию. Ментальное или психическое представление (репрезентации) о коже возникает в отношениях матери и младенца, во время которых материнская забота и обращение с ней создаст ощущение обволакивания.
Таблица 1. Функции Я-КОЖИ

Благодаря телесным ощущениям и потребностям, а также получаемому за счет этого вниманию у младенца сформировывается мысленный или когнитивный образ собственной кожи как «контейнера», «вместилища» или того, что Д. Анзье называет «психологическим мешком». Хотя Я-КОЖА не охватывает всю психику (психический аппарат), согласно Д. Анзье, она стремится к этому. Неспособность полностью развить сдерживающую функцию приводит к тревожному и рассеянному самоощущению у человека. Поскольку Я-КОЖА остается уязвленной и не может в полной мере выполнять сдерживающую (контейнирующую) функцию, человек пытается подтвердить свое существование и чувствовать себя замкнутым, живя в болезненной, терпимой, хрупкой, ранимой оболочке. Считается, что кожные расстройства могут служить этой цели и обеспечивать некоторую сдержанность, выступать своеобразным психическим контейнером, даже если это болезненно. Эта функция Я-КОЖИ становится важным фактором при кожных заболеваниях и дерматитах, таких как экзема, поскольку она, по-видимому, не функционирует.
+ Индивидуация. Связана с уникальным самоощущением, которое развивается у человека благодаря, например, осознанию собственной кожи, ее цвета, текстуры, запаха и т. д. Это ощущение бытия и индивидуальности впервые возникает, когда ребенок узнает свою кожу, ограничение в отношении того, где он начинается и где заканчивается по отношению к внешнему миру. Внешние агенты должны находиться вне организма, внутрь себя будут допускаться только хорошие инородные тела. Эта функция необходима для идентификации как хороших внешних объектов, так и другого человека как «другого». Согласно Д. Анзье, это самоощущение и индивидуализация также реализуются Я-КОЖЕЙ, обеспечивая человеку уникальное самоощущение. Точно так же, как отпечатки пальцев уникальны для каждого человека на физиологическом уровне, ощущение уникальности может быть достигнуто и на психическом. Неспособность полностью раскрыть кожный Я-потенциал приводит к неустойчивому ощущению себя и единства, а также к ослаблению границ «Я».
ЗАДАНИЕ. Не нужно сравнивать себя с другими, первое, что приходит на ум, – в чем моя уникальность? Инаковость.
+ Регистрация следов памяти или значимых событий в психобиографии человека. Точно так же, как кожный покров часто используется для демонстрации культуры человека и чувства принадлежности к нему (например, татуировки, иссечения, отметины и шрамы и т. д.), эта функция Я-КОЖИ служит ментальной пленкой чувств человека. Другими словами, благодаря «осязанию», которым обладает кожа, в сочетании с другой сенсорной информацией, полученной из внешнего мира, человек способен обрабатывать и интегрировать всю эту информацию и создавать мысленный образ данной реальности. Поступающая сенсорная информация, будучи интегрирована, возвращает обратно зеркальное отражение внешнего мира. Таким образом, Я-КОЖА, согласно Д. Анзье, играет роль психической пиктограммы. Эта функция развивается главным образом благодаря заботе матери, поскольку первая сенсорная информация, которую получает младенец, поступает от кожных покровов. Кожные ощущения являются основными источниками информации, которую младенец получает из внешнего мира. Они, в свою очередь, должны быть обработаны, чтобы обрести когнитивную картину мира. Функция этой когнитивной картины мира служит биологическим целям, поскольку младенец интегрирует сенсорную информацию, а также социальным, так как кожа с ее различными специфическими признаками также принадлежит более широкому сообществу, культуре и религии. Д. Анзье далее описывает, что одной из первых проблем, связанных с этой функцией, будут позорные следы, обнаруженные на теле, на коже. Кроме того, если тревога, связанная с разрушением фантазии о слиянии матери и младенца, то есть фантазии младенца о том, что у него/нее и матери общая кожа, оказывается непреодолимой, Я-КОЖА становится неспособной когнитивно представлять внешний мир и его следы. Таким образом, ребенок будет создавать свои собственные физические метки, подтверждающие его собственное существование. Эти «надписи», будь то сыпь, повреждения, раны или экзематозные симптомы, раскрывают прошлое и настоящее человека в его сообществе и становятся соматической заменой отсутствующих психических репрезентаций. Предполагается, что физические телесные следы заменяют ментальную, или психическую, пленку. Эта функция представляет особый интерес, поскольку предполагает, что человек способен создавать и регистрировать свои собственные физические следы для выполнения психического механизма. По мнению Д. Анзье, Я-КОЖА – это оригинальный пергамент, который, подобно палимпсесту, сохраняет стертые, процарапанные, закрашенные письменами первые очертания «оригинального» дословного письма, состоящего из следов на коже. Любая психологическая травма, в том числе полученная в раннем возрасте, найдет свое отражение в данном случае посредством соматического выражения. Экзема с ее кожными поражениями, следовательно, может рассматриваться как средство фиксации психических следов, поскольку психическая структура человека не может этого сделать либо из-за невыносимой тревоги, либо из-за какой-либо травмы раннего возраста. Эта идея, развитая Д. Анзье, подтверждает, что любое событие в возрасте от рождения до 3 лет, переживаемое как травмирующее, может сохраняться на сенсорном уровне. С обеих точек зрения представляется, что некоторые кожные заболевания могут служить отражением этого события на коже в качестве свидетельства прошлой истории человека. Точно так же, как кожа может свидетельствовать об истории болезни человека или ее части по наличию рубцов, дерматологические повреждения вполне могут свидетельствовать об истории кожного заболевания. Эти кожные симптомы, как предполагается в настоящей книге, одновременно выявляют и скрывают переживания уязвимости человеком, которые требуют проговаривания и дальнейшего исцеления.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



