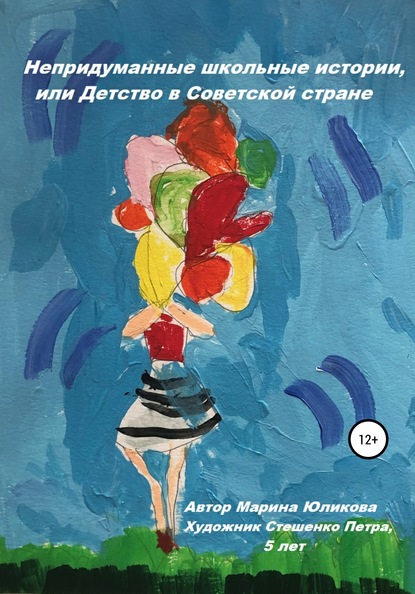 Полная версия
Полная версияНепридуманные школьные истории, или Детство в Советской стране
Расстроенные мы вернулись к школе, где нас ждал удар: портфелей в трубе не было. Мы бегали по близлежащим улицам, заглядывали под каждый куст, расспрашивали прохожих. Время катастрофически приближалось к вечеру, и уже стало понятно, что ничего мы не найдем и надо бежать домой, пока не начали искать нас самих.
Дома про потерю портфеля я никому не сказала. К счастью, никому и в голову не пришло, что ребенок может прийти из школы без портфеля. .
Утром у двери класса нас поджидала классная руководительница: «Ну что, голубушки, идите к директору».
Эпопея с портфелями закончилась вполне благополучно. Наши портфели нашли прохожие. Прочитали на тетрадках номер школы и отнесли по месту назначения, к директору. Директор не стала сообщать родителям про наши шалости, только посмотрела на нас укоризненно и сказала: «Да уж! От девочек я такого не ожидала. Докатились!»
История восьмая. «Пятая подружка» или немного про любовь
Игорь был везде. Стоило нам собраться и пойти всем вместе на море, в библиотеку или в кино, как сразу же появлялся Игорь. Мы уже начали с подозрением коситься друг на друга: случайностью это быть не могло. Случайности так часто не происходят. Похоже в наши ряды затесался предатель.
Как-то мы сидели на лавочке и лениво обсуждали чем бы заняться. Тут появился Игорь и пригласил нас на речку:
– Я покажу вам настоящий индейский шалаш! – соблазнял он.
Мы задумались: я и Галя любили книги про индейцев, Люда любила приключения, Света любила нас всех. Решили идти.
На речке было здорово! Мзымта – горная река. Когда в горах тает снег, она течет сплошным, бурлящим потоком, сметая все на своем пути и унося в море. Летом и ранней осенью, до дождей, река мелеет и образует множество небольших островов, поросших кустарником. На одном из таких островков и находился шалаш Игоря.
Гордый, что нам понравился его шалаш, Игорь начал взахлеб рассказывать все, что он знал про индейцев, его любимыми героями были Зверобой и Чингачгук.
«А вы знаете, как легко узнать любую тайну?», – спросил он, потеряв осторожность. «Как?» – мы насторожились. «Нужно очень близко подойти к людям, разговаривающим о чем-то важном, и повернуться к ним спиной. Так можно стоять сколько угодно, никто и не подумает, что вы подслушиваете», – Игорь спохватился, что сказал лишнее, но было уже поздно. «Ах, вот откуда ты всегда знаешь куда мы идем?» – кричала Галя. А Света, вообще, начала молотить Игоря своими маленькими кулачками.
Полдня на речке пролетели очень быстро. К вечеру, помирившись, отправились домой. По пути встретили учительницу русского языка, дружно поздоровались и вспомнили, что на дом, среди прочего, задали длиннющее правило по русскому.
Дома я почувствовала страшную усталость. Съела все, что мне оставили на ужин, и моментально заснула.
Урок русского был первым. Выучить правило я не успела. Поэтому сидела как на иголках. Отвечать правило вызвали Люду, и класс облегченно вздохнул. Но Люда правила не знала. Учительница не разрешила ей сесть, а начала по очереди вызывать меня, Галю, Свету. Дошла очередь и до Игоря.
Мы стояли дружной группкой, под суровым взглядом учительницы. Но, если совсем честно, нам не было стыдно. Мы чувствовали себя дружным и сплоченным коллективом. Было приятно ловить на себе завистливые взгляды одноклассников, которые видели, что вызвали нас всех неспроста, но не могли понять почему. А двойки нам в тот раз не поставили, мы пообещали все выучить к следующему уроку.
С тех пор, некоторые одноклассники стали звать Игоря нашей пятой подружкой.
Но никакой «пятой подружкой» Игорь не был. Он просто был безнадежно влюблен в Люду.
Сначала наши мальчишки над этой его любовью насмехались, потом привыкли, и перестали обращать на нее внимание, потом стали слегка завидовать. Мы переходили из класса в класс, взрослели, менялись, а влюбленность Игоря все не заканчивалась. Она была такой долгой, что постепенно стала отличительной чертой нашего класса: такой любви не было ни у «Ашников», ни у «Бэшников». И мы все стали ею гордиться, как будто имели к этой любви какое-то отношение.
Иногда, когда Люда не видела, я ее потихоньку рассматривала. Мне было интересно, за что Игорь так долго ее любит. От всех других девчонок класса Люду отличали большие, темные ресницы. Они все росли в разные стороны, но не хаотично, а очень правильно: часть влево, часть в право. Ресницы пересекались, и над глазами получались не то звездочки, не то снежинки.
Удивительно, но любовь Игоря дожила до самого выпускного вечера. Я не спрашивала у Люды, почему эта любовь так и не стала взаимной. Бывают вещи, которые не спросишь даже у лучшей подруги. Мне часто казалось, что прелесть этой любви была в ее неразделенности. А уж, что до Игоря, так его эта влюбленность делала лучше и возвышеннее, это я знаю точно.
История девятая. Про войну
Учительница истории решила организовать в школе музей боевой славы. В кабинет истории привезли стеклянные витрины. Экспонаты для музея собирали не один год, ученики, учившиеся еще до нас. Кто-то приносил фотографии из домашнего архива, кто-то солдатские письма-треугольники и боевые награды: почти в каждой советской семье были участники Великой Отечественной войны.
Особой гордостью музея стала проржавевшая каска, найденная школьниками старших классов во время похода в горы. Школьный художник на одной из стен кабинета истории нарисовал схему Битвы за Кавказ. Это было одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Наши детские сердца замирали, когда мы слушали, что благодаря Битве за Кавказ, наши войска смогли победить под Сталинградом. Взаимосвязь двух сражений, положила начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
На перемене Любовь Ананьевна, так звали учительницу истории, пригласила нас четверых в кабинет истории и предложила стать экскурсоводами в музее боевой Славы. Мы посовещались, немного поспорили и согласились. К тому времени мы уже многие дела делали только вместе. Учителя это знали.
Не помню, что досталось делать Гале, Люде и Свете, а мне поручили опросить адлерцев-Героев Советского Союза. Шестеро из них тогда еще были живы. Вот это-то задание я, как бы и провалила. Сейчас попытаюсь объяснить.
Все ветераны встретились со мною охотно. Кто-то принимал меня в домашней одежде, кто-то в праздничном мундире с медалями и орденами. Меня угощали чаем и предлагали холодный компот, было жарко. Люди, к которым я приходила были героями: летчики, разведчики, морские пехотинцы. Некоторые ушли на фронт добровольцами. Но все они о своем подвиге рассказывали не то чтобы одинаково, но каким-то газетным языком. Может быть, тогда было не принято рассказывать о житейских трудностях войны, может быть, им было неудобно хвастаться, а может, из-за многочисленных встреч с пионерами, у них уже сложился один и тот же рассказ, в котором они не хотели ничего менять. Или я не смогла их разговорить. Я не знаю. Я послушно записывала все что мне говорили, но каким-то детским чутьем понимала, что пишу не то и не так. Но исправить ничего не могла.
Тогда все они казались мне очень старыми. Годы спустя я часто думала: судьба мне подарила уникальную возможность узнать о войне от людей, которые сами принимали в ней участие. Им было всего-то по 50 – 60 лет, они все помнили, а я ничего не смогла услышать!
Только один раз, на мое надоедливое: «Ну вспомните, пожалуйста, что-нибудь интересное!» – один из ветеранов грустно сказал: «Ничего интересного на войне нет. Война – это очень страшно, девочка!»
Я была впечатлительным ребенком и запомнила его слова. До сих пор одним из лучших стихотворений о войне, я считаю коротенькое четверостишие Юлии Друниной:
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
А людей, о подвиге которых мы рассказывали в своем школьном музее Боевой Славы, мне хочется вспомнить поименно:
Герой Советского Союза Войтенко Стефан Ефимович, 1909 – 1993;
Герой Советского Союза Гаранян Эрвант Георгиевич, 1903 – 1995;
Герой Советского Союза Дибров Кирилл Селиверстович, 1914 – 1980;
Герой Советского Союза Клименко Трофим Михайлович, 1919 – 2003;
Герой Советского Союза Мелетян Арутюн Рубенович, 1925 – 1997;
Герой Советского Союза Нагульян Мартирос Карапетович, 1920 – 1945;
Герой Советского Союза Худяков Иван Степанович, 1913 – 1990;
Полный кавалер ордена Славы Трубачев Михаил Григорьевич, 1920 – 2011.
Почти все они похоронены в Адлерском районе города Сочи.
История десятая. Как «исчерпываются» конфликты
Наши учителя вопрос кому и с кем сидеть за партой, решали по-разному. Некоторые из них рассаживали нас как малышей: мальчик с девочкой, и только за те парты, которые укажут они.
Другие, напротив, говорили, что мы люди взрослые и можем сидеть где хотим. Разумеется, второе нам нравилось больше. Мы вчетвером старались сесть, как можно дальше от учительского стола, и на самых скучных уроках умудрялись играть в слова, крестики-нолики, морской бой.
Самую интересную игру придумала Галя. Играли в нее на географии. Загадывалось какое-нибудь географическое название, и все искали эту точку на карте. Если задание было сложным и все сдавались, загадавший начинал подсказывать: какое полушарие имеется в виду, какой материк, и вообще, о чем идет речь – о реке, городе или горном массиве.
На русском я сидела на второй парте, с мальчиком Вовой, и из-за этого сильно злилась. Учительница русского языка рассадила нас по старинке, как в начальной школе: мальчик с девочкой.
Вова один в классе носил большие круглые очки и, поэтому казался очень интеллигентным мальчиком. Но я-то знала, что это не так. Вова любил подкладывать мне кнопки на стул и дергать меня за «хвост». Его любимой шуткой было поменять мне пасту в ручке. Если меня вызывали к доске, то он вытаскивал из моей ручки синий стержень и менял его на красный. Я садилась на место, начинала писать под диктовку учительницы и с ужасом видела, что пишу красным цветом. Эти начатые буквы мне приходилось замазывать синей пастой – выходило очень неряшливо. Русский язык, итак, был единственным предметом в школе, с которым я никак не могла подружиться, а тут еще эта паста! Еще я злилась на себя – пора бы уже запомнить эту шутку, и проверять ручку прежде, чем начать писать. Но к следующему русскому, я снова забывала и про ручку, и про пасту.
Но на этом мои горести не заканчивались: у Вовы дома был настоящий «живой уголок», и некоторых своих питомцев он иногда приносил в школу. В его парте, то скреблась черепаха, то, пытаясь вырваться на волю, как сумасшедший, носился хомячок. Восторга это у меня не вызывало.
Однажды, вернувшись от доски на свое место, я увидела на стуле банку. Банка была закрыта полиэтиленовой крышкой, утыканной дырочками, проделанными гвоздем. Внутри банки сидела… змея! Я оцепенела.
Увидев страх в моих глазах, подошла учительница, взяла банку.
– Ой, какой миленький ужик! Марина, видишь желтые пятна на голове? Значит – это уж, а не змея. Володя, где ты его взял?
– Вчера с отцом на речке нашли! Мама не разрешила оставить.
– А что ж ты его мучаешь, в банке? Надо отнести опять на речку и выпустить.
Она посмотрела на нас внимательно и сказала:
– Вот с Мариной и отнесете.
Я поморщилась.
– А можно я отнесу? – закричала, увидев это Галя.
– Я! Я! – всполошились все остальные.
– Все успокоились! Ужа относят Марина и Володя. И не радуйтесь, – повернулась она к нам, – чтоб до математики успели!
– А я и без Маринки могу! – буркнул Вовка.
– Нет! Только вдвоем.
И мы пошли. Мне очень не хотелось идти с Вовкой и его ужом. Но с учительницей не поспоришь.
– А у меня еще рыбки есть! – зачем-то сказал Вовка, как только мы отошли от школы.
– А мне котенка не разрешают оставить, – зачем-то ответила я.
– Да ты, не расстраивайся! Ты попроси их очень-очень, они и разрешат.
– Нет, не разрешат!
Вовка посмотрел на меня и задумчиво сказал:
– А ты мне казалась такой воображалой!
Кем казался мне Вовка, я уточнять не стала, чтобы его не обидеть.
Мы дошли до речки, отпустили ужа и вернулись в класс за несколько минут до звонка на перемену.
Учительница посмотрела на нас внимательно и спросила:
– Ну что, конфликт исчерпан?
– Исчерпан! – счастливо ответила я.
Уж я то знала, что после такого приключения, кнопки на стул Вовка мне больше подкладывать не будет!
История одиннадцатая. Ребенок – это вам не котенок!
В городе, в котором мы теперь жили, больше всего мне не хватало снега. В старой школе зимой нам объединяли два урока физкультуры, и мы ходили в парк кататься на лыжах. Мы сдавали нормативы и у меня неплохо получалось. Еще лучше обстояло дело с коньками. В прошлом году я выпросила настоящие «Снегурочки» и уже, на зависть другим девчонкам, научилась делать «Фонарик». И лыжи и коньки пришлось оставить в Москве за ненадобностью. Я даже не могла похвастаться своими успехами перед новыми подругами.
И все-таки, радоваться редкому снегу, в этом южном городе умели! Если снег выпадал поздно вечером, то даже самые строгие родители выпускали гулять детей допоздна. Многие выходили во двор вместе с детьми. Никто ведь не знал, когда закончится это снежное счастье. Улица оглашалась визгом и радостными криками. Дети умудрялись слепить снеговиков из самого тоненького, еле-еле укрывшего землю, слоя снега.
Если снег шел всю ночь, радовались еще больше, особенно школьники. Первый урок отменяли, и нас всех отправляли стряхивать снег с деревьев. Это была спасательная операция. Одни из деревьев были слишком теплолюбивыми, и могли погибнуть от холода, другие – имели шикарную вечнозеленую крону, и могли поломаться, под тяжестью снега. Мальчишки вооружались вениками и швабрами, чтобы достать как можно выше, девочки просто трясли ветки. Всем было весело. Я вздыхала – мне хотелось жить в городе с настоящий зимой.
И вот однажды мне повезло. На зимних каникулах, нас с Галей, за какие-то школьные заслуги, отправили на турбазу в Красную Поляну. Это сейчас Красная Поляна – всемирно известный курорт. Тогда это был просто поселок, затерявшийся в горах. Но зато там был самый настоящий снег!
Добирались до места на ПАЗиках. Почему не на большом автобусе, я поняла на скальном участке. На некоторых участках дороги, еле-еле могла проехать одна машина. Встречный транспорт ожидал, пока мы проедем, в специальных «кармашках». Слева были скалы, справа – обрыв. Дорога была очень извилистой, шофер, кроме скал, ничего не видел. Как водители узнавали о встречном транспорте, для меня осталось загадкой. Я с ужасом смотрела на столбы линии электропередач, висящие над пропастью. Они были установлены на специальные платформы-мостики. Вдоль дороги места для них не было.
Мне было очень страшно. Галя, которая никогда ничего не боялась и уже не раз ездила по этой дороге, подливала масла в огонь:
– Этот участок дороги называется «Пронеси господи!» А знаешь зачем на крыше автобуса сетка? Сверху могут посыпаться камни. А сейчас будет туннель, а в туннеле икона, как в церкви, ей молятся, чтобы доехать.
Я недоверчиво взглянула на Галю, икона в туннеле – это уж что-то слишком. Но мы уже въезжали в туннель. Там и вправду в небольшом углублении стояла настоящая икона, лежали живые цветы и горели свечи. Молиться мы не умели, но все равно доехали благополучно.
Расселили нас в небольшие одноэтажные домики. В нашем домике жили мы с Галей и еще две девочки из параллельного класса. Я уже представляла, как здорово мы будем проводить с Галей время, но как бы не так! В первый же день Галя перезнакомилась с девочками из нашей школы, с девочками, приехавшими из других школ города, и с девочками местными, которые ниоткуда не приехали, а здесь жили. Наш домик стал чем-то вроде штаба, каждую минуту кто-нибудь прибегал и искал Галю. Я про себя грустно улыбалась, я уже смирилась с этой ее способностью быть нужной сразу всем.
К тому же, снег-то никуда не девался! Я вышла из домика и оглянулась. Между елками симпатичная девушка и маленький мальчик лепили снеговика. Девушка меня увидела и весело замахала:
– Иди к нам!
Девушку звали Настя, мальчика – Алеша, и мы прекрасно провели время. Мы слепили такого огромного снеговика, что еле-еле установили третий ком. Потом Настя принесла большие деревянные санки и мы начали кататься с горы. Вниз спускались втроем, а наверх мы с Настей тащили санки и Алешу.
Вечером в домике делились впечатлениями. Я рассказала всем про своих новых друзей.
– А я знаю кто это! – сказала Галя, – родители Алеши разбились на машине, но ему этого не говорят. Сейчас его оформляют в интернат. А Настя работает на турбазе и ей поручили присматривать за мальчиком.
Мне стало слегка обидно. Ну вот, я целый день с ними гуляла, и ничего не знала, а Гали и близко не было, но она уже в курсе и про Алешу, и про Настю. Но тут же мне стало стыдно: какая разница кто о чем знает, если родителей мальчика больше нет и никто не сможет их вернуть.
Утром я взяла самое большое яблоко и пошла искать Алешу.
– Ты случайно не знаешь когда мои родители приедут? – спросил Алеша с удовольствием надкусывая яблоко.
Я отвернулась.
Этот день уже не был таким радостным, как вчерашний. Я делала вид, как мне весело, но на самом деле все мои силы уходили на то, чтобы не смотреть жалостливо на мальчика.
А потом мне в голову пришла идея. Это была замечательная идея, и чем больше я ее обдумывала, тем больше она мне нравилась. Все оставшиеся после этого дни, я уже отдыхала в полсилы. Меня перестал интересовать даже снег. Я хотела домой, осуществить мою идею можно было только там.
Идея была очень простой: мы заберем Алешу к себе. Я расскажу родителям, какой это замечательный мальчик и как ему в жизни не повезло. Они поедут со мной в Красную Поляну, посмотрят на Алешу и не смогут от него отказаться. В маме я была уверена. А вот отчим… Отчима уговорим мы вдвоем с мамой. Я верила, что все так и будет.
Но, когда вернулись домой, и я взахлеб рассказала о замечательном, но таком несчастном Алеше, мама, неожиданно для меня, категорично сказала:
– Нет!
Обычно послушная, я билась, плакала и кричала:
– Это все из-за него, да? – я имела ввиду отчима, – Конечно из-за него! Он мне даже котенка не разрешиииил!
Мама посмотрела на меня очень грустно, прижала к себе крепко-крепко, погладила по голове и сказала:
– Какая же ты у меня еще маленькая! Ребенок – это же не котенок!
Больше я Алешу не видела. Никогда.
История двенадцатая. Про книги
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
В. Высоцкий
Галя жила около городской библиотеки и мы ходили туда очень часто. Я заходила за ней домой, и мы шли в соседний дом – в библиотеку. Часы, проведенные в библиотеке и за книгами, были самыми счастливыми часами моей жизни. Иногда, за дальними стеллажами, когда никто не видел, я проводила по корешкам рукой – гладила. Честное слово! Книги меня манили, звали и обещали… Я им верила.
Выбрав на абонементе книги, мы начинали уговаривать библиотекаршу: на руки выдавалось по пять книг, а нам хотелось больше. Иногда библиотекарь нам уступала, но чаще отказывала.
– А уроки вы когда делать будете?
С уроками она была права. Самую интересную книжку я начинала читать еще в библиотеке, потом читала на ходу, по дороге домой. У меня это здорово получалось, нужно только было следить, чтобы не налететь на прохожих. Дома я клала книгу под учебник, на случай, если войдет кто-то из взрослых, и начинала жить придуманной, но такой интересной жизнью! Уроки в такие «библиотечные дни» я делала быстро, лишь бы отвязаться.
Иногда мы в классе давали друг другу книги из домашних библиотек. Почти всем это строго запрещалось: хорошие книги были дефицитом. В библиотеках их тоже не было. Один раз, выпросив у знакомой девочки «Трех мушкетеров» на один день, я не спала почти всю ночь. Читала, то запершись в туалете, то с фонариком, под одеялом, чтобы не увидела мама и не отобрала чужую книжку.
Как и все, я давала книги из дома друзьям и знакомым. Чтобы не было заметно, раздвигала соседние тома. Сама я книги из родительской библиотеки перечитала давным-давно, и не один раз. Если бы взрослые узнали, что я даю их девчонкам, мне бы сильно влетело. Я сама устанавливала на книжном шкафу надпись:
Не шарь по полкам жадным взглядом.
Здесь не даются книги на дом!
Лишь безнадежный идиот
Знакомым книги раздает.
Один раз нам с Галей сильно повезло. В школе объявили очередной сбор макулатуры. Дело это было привычное и простое. Мы жили в самой читающей стране мира. Уже детсадовцам и первоклашкам было принято выписывать «Веселые картинки» и «Мурзилку», пионерам – «Пионерскую правду», комсомольцам – «Комсомольскую правду», а уж взрослые, вообще, читали по несколько периодических изданий сразу. Все эти газеты и журналы, после прочтения, пылились в прихожих. И люди радовались, когда к ним заходили пионеры за макулатурой.
Немного позже появятся пункты приема макулатуры, в которых можно будет обменять старые газеты на талончик, по которому, в книжном магазине, дадут дефицитную книгу. И газеты станут отдавать не столь охотно. Но пока этих пунктов не было, и нас встречали с радостью. Некоторые даже заранее перевязывали пачки, чтобы нам было удобнее нести. Мы брали такие пачки, спускались вниз, и на лавочке у подъезда их развязывали.
Придумала это Галя.
– А вдруг там что-то нужное, между газет?
Нужное действительно попадалось: я отбирала для себя журналы «Юность», Галя – выкройки и полезные советы из «Работницы» и «Крестьянки».
Но в тот раз, развязав стопку, мы счастливо переглянулись: тонкая, пожелтевшая, без обложки книжка, была «Рассказами о Шерлоке Холмсе» Артура Конан Дойла. В нашем окружении о ней слышали все, но никто не читал. Мы настороженно уставились друг на дружку. Предстояло решить очень важный вопрос – кто будет читать первым. Вообще-то, я привыкла Гале уступать. Но только не в этот раз. Галя это поняла и придумала, что делать.
Мы зашли за дом, подальше от любопытных глаз, положили на землю стопки газет, сели на них и стали читать вдвоем. Если кто-нибудь из нас переворачивал страницу раньше времени, другой его одергивал. Про сбор макулатуры мы забыли напрочь.
На следующий день мы притащили книжку в школу. Когда одноклассники, среди прочих рассказов, прочли «Пляшущих человечков», в классе начался настоящий шифровальный бум. Посылать простые записки друг другу стало скучно, теперь посылались только шифровки. Самым легким, а потому неинтересным был шифр, в котором букве А соответствовала цифра один, букве Б – два, и так далее по алфавиту. Но и сложные шифры с ключом, для школы тоже не годились. Такие записки могли прочесть только люди, имеющие ключ. Лучшие умы класса бились над созданием уникального шифра.
На перемене я схватила Свету за рукав и потащила подальше от навязчивых глаз.
– Я придумала! Придумала шифр, который очень трудно разгадать! И ключ не нужен!
– Как ты смогла? Это же сложно!
Я потупилась:
– Ну, если честно, не совсем придумала. Вернее, совсем не придумала. В общем, в книжке нашла. Не важно. Главное Люда с Галей, не разгадают нашу записку ни за что на свете!
– Нет, разгадают! Они сообразительные.
– Спорим!
– Спорим!
И мы поспорили. На следующем уроке я написала шифровку Гале с Людой, в которой назначила девочкам встречу. Через два дня мы топтались со Светой в парке.
– Придут!
– Не придут!
И тут мы увидели, что наши подруги уже подходят.
– Как вы смогли прочесть? – удивленно и разочарованно спросила я.
– Подумаешь, легкотня! – задрала нос Галя, но увидев мое расстроенное лицо, тут же добавила:
– Моя мама помогла!
– Мама? Она-то как смогла? – я была уверена, что мамы ничего не смыслят в шифрах.
– А она велела мне взять в библиотеки книги, которые ты прочла последними. Там мы и нашли твой шифр. Вот так!
Да уж! Необычный способ дешифрования придумала Галина мама.
Идея влюбиться пришла в наши головы тоже благодаря книге. Интересные книги мы не сдавали просто так в библиотеку, а переписывали друг на друга. Библиотечными правилами это разрешалось. И вот, прочитав друг за дружкой очень интересную книжку Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», мы с Галей решили, что нам пора влюбиться. Но вообще-то, это уже другая история.
Истрия тринадцатая. Как мы «влюблялись»
Если честно, то мне уже нравился один мальчик из нашего класса. Он был лопоухим и ниже меня примерно на полголовы, но я все равно находила его очень привлекательным. О своем увлечении я никому не рассказывала. Поэтому, это как бы не считалось. Прочитав «Дикую собаку Динго», мы отправились влюбляться на третий этаж, к старшеклассникам.



