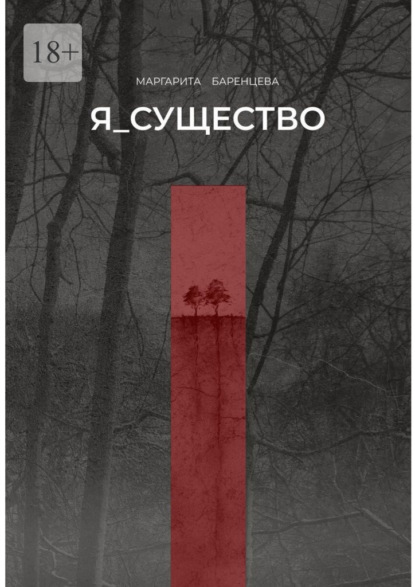
Полная версия:
Я_существо
Диана резко выгнулась вполоборота на тонких ногах, каблуки на ботинках тихо взвизгнули об асфальт. Замерла. Повисла у меня на руке. Она ниже почти на две головы. Наши взгляды наконец встретились. Я рассматривал её огромные чёрные глаза. Она рассматривала мои – голубые. Двое совершали прямо здесь, прямо сейчас немыслимое преступление против своей природы: они стояли так близко, смотрели так глубоко, дышали так рядом, что ещё немного – и произойдёт непоправимое…
Подъехавшее такси с тихим шелестом притормозило всего в метре от нас.
В отражении выпуклого стекла наши серые лица прорисовывались в тусклом свете уличных фонарей…
Глава 5. В кухне
Ты получаешь то, что получаешь.
Завтра – невольно скользнёт нож.
Это будет первая свежая полоска вспоротой кожи за полгода. Из неё хлынет кровь. Ты жалобно хныкнешь, прикроешь глаза, сквозь дрожащие ресницы взглянешь на лампочку на потолке, пытаясь подавить накатывающую дурноту и головокружение. Затем глубоко вдохнёшь и, опустив голову снова вниз, к обеденному столу, порезанным пальцем отщипнёшь от грозди винограда тугую спелую ягоду. Отправишь её в рот и тут же раскусишь, ощущая, как её приторная сладость смешивается на языке с солёным металлическим привкусом красной жидкости, сочащейся из свежей раны.
Первая свежая полоска за полгода – и как она получена?
Это же просто смешно.
Я методично режу засохший твёрдый сыр слишком тупым ножом и неосторожно расставляю пальцы. Никаких сражений. Никакого самобичевания. Никаких страданий. Тупой нож. Твёрдый сыр. Только и всего. Такая ирония.
В углу кухни жужжит мотор стиральной машинки.
Итак. Вот мне и сорок пять.
В кармане куртки смятая, размоченная дождём коробка с красными капсулами от головной боли. О Господи. И как бы ты, интересно, провёл этот вечер, если бы твой единственный друг не явился сегодня разбавлять эту тишину своим сквернословием и дешёвым коньяком?
Я взглянул на приоткрытую дверь в подсобку.
Там стоял оружейный сейф, всякая громоздкая утварь и приставная деревянная лестница, которую я иногда использовал для уборки листьев с козырька над крыльцом, служившего навесом над верандой перед входом в эту самую кухню. Этажом выше располагались две комнаты, в одной из которых была моя спальня. Сейчас кухонные окна смотрят прямиком в умирающий осенний сад, а по весне отсюда открывался вид на прекрасные цветущие яблони и вишни. В углу сада была небольшая ягодная грядка, а дальше клумбы с экспериментальными цветами и буйно растущими розами, которые к ноябрю совсем отошли, и ветви кустарника были срезаны.
Я часто забирался туда, наверх, чтобы послушать звуки леса неподалёку, вдохнуть густую приторную вонь чёрной, как ночь, жирной земли. Когда лежишь на крыше этого козырька, как в детстве, свесив ноги с самого края, интуитивно знаешь, чувствуешь, наблюдает за тобой кто-то или здесь нет ни одного свидетеля. И ты лишь сам с собой наедине. Воздух влажен. Он пробирается в складки одежды. Свисающие ступни тянет вниз, будто набухшие грозди винограда. Ещё немного – и сапог сам собой свалится вниз. Спящая на крыльце кошка подпрыгнет от грохота и унесётся прочь. Растревоженные птицы взлетят с веток. Они почти беззвучны, но воздух всё же шелестит меж их серых перьев. Ты посмотришь на серое тусклое небо, рассмеёшься, теряя с паром остатки тепла из лёгких. И того и гляди заболеешь…
Темно и холодно.
Темно. И Холодно.
С какой бы буквы мы ни начинали писать предложение, первая – всегда заглавная.
Это имена наших демонов: Холодно. Темно.
– Это так ты развлекаешься в своей глуши?
Друг вломился в кухню прямо посреди моих размышлений, когда, уставившись в чернеющий дверной проём, я посасывал порезанный палец и размышлял о предутренних часах, проведённых на козырьке дома. Кровь, сладко-солёная, дурманящая, проступала из раны и через нёбо отдавала свой привкус рецепторам в нос. Я смаковал момент. Приглушённая лампа вытяжки на кухне давала свет такой жалкий, что казалось, будто это мерцает одна-единственная свеча где-то в углу. Кровь ещё сочилась. Её вкус и запах слишком сильно возбуждали моё воображение. Он это знал. Он знал, что иногда я режу себя просто так. Чтобы почувствовать запах. Чтобы почувствовать вкус. Но больше этого всего я жаждал её – боль. Тонкую слабую боль. Нарастающую, если нажать на порез. Убывающую, если не давить.
Я знал, что боль – это всего лишь боль. Ловушка мозга, чтобы спасать от безумия тело. Нейронная ловушка. Такая смешная штука, позволяющая оставаться на земле, когда штормы сознания относили лодку психической стабильности далеко-далеко от дома.
Глядя на друга, я расхохотался, обнажив зубы в широкой звериной улыбке. Иногда он понимал чуть больше, чем показывал. Этот прозрачный взгляд был ему знаком: кровь возбуждает воображение. Кровь возбуждает аппетит. Физический и психический.
– Я не удержался и съел виноград с каплей собственной крови. Ничего же?
Артур бросил в угол пакет с выпивкой и какой-то закуской.
– Даже не знаю. Идиот ты, что с тебя взять? Лучше бы ты нашёл себе девчонку и трахнулся как следует, чем резать себя. И что ты сделал на этот раз? Чем порезал? Ножом?
– Да, вот этим.
Я поднял лезвие острием вверх. Небольшой универсальный кухонный нож. Не новый. С изношенной старой рукояткой. К тому же тупой. Куда эстетичнее делать порезы канцелярским ножом. От них остаются совсем небольшие царапины. Лезвие идёт тонко, но не глубоко. Кожа не раскрывается: тонкая рана имеет неровный край, полотно тканей быстро смыкается. Кровь идёт недолго. Кислород в порез поступает плохо, и от этого рана заживает долго. Болит почти неделю. Если тревожить – болит интенсивно. Обычно такие приступы случаются со мной осенью или зимой. Поэтому, когда порезы заживают, уже к лету от них остаётся лишь белая паутинка, которую видно только при сильном загаре. Да и то легко сойдёт за царапину от когтей кошки. Никаких ожогов. Никаких швов. Просто тонкий порез где-нибудь с тыльной стороны ладони. Идеальный инструмент.
До того, как в моём арсенале успокоительных появилась боль, у меня были барбитураты и антидепрессанты. От последних я тупел, как жертвенное животное на заклании: сидел часами в поле и вглядывался в сухую траву, пока не сносило крышу и я не хватался за зажигалку…
– Специально порезал?.. – спросил Артур.
– Ну, нет.
– Ну, нет? Так «ну» или «нет»?
– Нет, конечно. Разве можно специально порезаться этим дерьмом? Специально таким резаться непрактично. К тому же ты знаешь, что я в завязке.
– В завязке он…
Артур недоверчиво хмыкнул и сел на стул, который жалобно скрипнул под его грузным телом. Он поднял на меня недовольный вопрошающий взгляд, мол, не пора ли сменить эту старую мебель?
– Я помню, помню, что они тебя раздражают. Скоро заменю их.
– На кресла?
– На кресла.
– Красивые кухонные кресла? Специально для меня?
– Специально для тебя и по размеру твоей ж… задницы… Удобные и не столь хрупкие, с такой велюровой обивкой, которая ласкает кожу и греет её, как котик, уснувший на коленках. Вот такие кресла я заказал. И это всё для тебя, мой привередливый друг.
Он снова хмыкнул и недоверчиво улыбнулся.
– Ну ладно. Тогда наливай.
Я нагнулся к пакету, покорно повинуясь его приказу, и откупорил бутылку. Запах крепкого алкоголя разлился по комнате. Сразу стало теплее. В пакете три бутылки коньяка, один сыр в упаковке. Орехи. Какое-то мясо в вакууме. Кажется, я не ел мяса уже целую вечность. Однажды, когда я перебрал с алкоголем, оно для меня навсегда перестало быть и едой, и закуской. И ассоциировалось только с тошнотой и мучительной болью в животе. Друг заметил моё замешательство и с усмешкой рявкнул, мол, это не для тебя. Я выложил всю еду на тарелку: это мясо, свежий сыр и тот – засохший сыр – с каплями крови, виноград и куски оставшегося хлеба. Мы всегда знали, чем это закончится. Это закончится тем, что закуска будет съедена в первые полчаса, а потом мы пойдём на крыльцо и будем грызть семечки, смешивая их с глотками спиртного.
– Ну, давай рассказывай, как ты повеселился. С той девчонкой. Ты был нервный, когда я звонил. Помешал?
– Помешал.
– Ты остался там на ночь?
– Допустим.
– О, вот это «допустим» такое сладкое, такое пикантное. – Лицо Арти расползлось от удовольствия. – Давай с этого момента поподробнее.
– Ты меня за кого принимаешь?
Я слегка ухмыльнулся.
– За задрота, у которого осталась хоть капля тестостерона в крови, и ты таки уложил девчонку в постель.
– Да, конечно… Вот так вот взял и уложил. И откуда тебе всё известно? Ты знаешь, было не так уж и романтично. Потому что…
– …Потому что, ну, спорим, ты слишком много ей подливал и она проблевалась?
– …Потому что да. И когда ты звонил, тот таксист был готов дать мне в рожу за то, что её организм не сдержал выпитого прямо в его машине.
– Реально? – Артур разразился хохотом.
– Я его хорошо запомнил: бородатый коренастый мужик в шустере. Такие бьют наповал, потому что в свободное от работы время они мочалят груши в спортзале. Но у них есть принципы. И принципы этого взяли верх, поэтому он мне не врезал. Но он хотел. Очень хотел. Я видел это по его лицу.
– Да он что, охренел? Пусть бы только попробовал тебе врезать!
– Мы каких-то два километра проехали, и тут уж всё началось. Диану полощет. Таксист орёт. Ты звонишь. Дверь настежь. В салоне вонь. Мои штаны пропитаны сам понимаешь чем. Вокруг нас бегает этот дикий мужик и вопит, как ненормальный, во всё горло, а я достаю бумажник, чтобы заткнуть фонтан его ярости. Диана корчится на коленках рядом с машиной. Она просто выпала из тачки, понимаешь? Выпала прямо на землю, как мешок с песком. Я даже поймать её не успел. У меня давненько такого веселья не было. Эта бородатая тварь, таксист, хватает из кошелька всю наличку, какая была, и сваливает в своей развалюхе. Налички было прилично. Слишком много для такого козла. Я сижу у обочины, злой, в грязных штанах и судорожно соображаю, что делать дальше. Район хреновый. Одну её тут не оставить, чтобы сбегать в ларёк за минералкой. А без минералки – труба. Ей очень плохо. Я тащу её на руках, как раненного в живот солдата. Оставляю сидеть возле входа. Прямо на асфальте. Она пьяная в хлам. Добываю воды. Пьёт. Полощет. И так раза три. Может, больше. Ночь сгущается. Я понимаю, что появление местных маргиналов – вопрос времени. Мы хоть и грязные по уши, но очень уж приличные для этого квартала. И Диана, несмотря на это дикое зрелище, чересчур красива. Смотрю на неё и вижу только её рот. Ловлю себя на мысли, что не целовался уже целую вечность. Понимаешь, ей хреново, а я фантазирую о том, как буду её целовать, хотя совсем не уверен, что перейду от фантазий к поцелуям. И вот во всём этом дурдоме начинаю думать о тебе. Что как-то грубо тебя отшил. От этой мысли становится смешно. Я хохочу в голос и не могу остановиться. Уже приходит мысль, что, наверное, стоит позвонить в скорую. Но тут Диану перестало трясти, и она, улыбнувшись, вдруг сжимает мою руку и шепчет: «Надо бы штаны твои постирать, пойдём домой. Валим домой, милый».
Артур захохотал.
– Вот умора! Штаны постирать… Милый…
У неё раздражение вокруг губ. Слёзы ещё из глаз льются. Помада размазана. Мы идём по ночному городу, оба грязные до невозможности и воняем, как стая бомжей. Идём километр. Другой. Три. А холод собачий. С каждым шагом сознание у неё проясняется, и она исподтишка начинает пинать мне по ботинкам. Эта дорога показалась вечностью. Как мы не напоролись на лихих ночных придурков – одному богу известно. Диана молча вела нас в свою квартиру. Пока поднимались, она из своего почтового ящика вытащила рекламные газеты. Расстелила их на входе в прихожей, чтобы не запачкать пол заблёванной обувью. Немного подумав, она бросила на эти газеты свою блузку и брюки. Просто разделась догола на входе. Я такого ещё никогда не видел. Скинула с себя абсолютно всё. Брюки, блузку, бюстгальтер, трусики. От обнажённого тела так хорошо пахнет женским потом. Такой тонкий запах… Я смутился, но не смог отказаться от соблазна рассмотреть очертания груди и бёдер в полумраке. Потом последовал за ней – снял свою рубашку и бросил в груду одежды на расстеленных газетах в прихожей. Так мы оказались в её квартире, в кухне с затёртым линолеумом на полу. Не то чтобы я хотел там остаться. Но потом она осмотрела меня с ног до головы и сочла, что рубашки снять было недостаточно. Молча расстегнула мне ремень, ширинку, стащила штаны, трусы, без колебаний бросила всё в стиралку и ушла в душ. Не припомню, было ли такое со мной хоть раз до этого – стоять голым посреди кухни у совершенно незнакомой мне девушки. Интуиция подсказывала мне валить как можно быстрее, но ехать среди ночи домой голым? Поздней осенью? Ха… Что ж, подожду, пока вещи высохнут. Видела бы сейчас меня моя дочь…
Когда Диана вышла из душа и застала меня смеющимся над этой мыслью, я так и сказал ей: моя дочь бы сейчас охренела, увидев такое.
Диана повернулась.
– У тебя есть дочь?
– Есть.
– Сколько ей?
– Восемнадцать.
– Взрослая. Это сколько тебе было, когда ты стал отцом?
– Уже нормально для того, чтобы стать отцом.
– Умеешь же ты уйти от ответа про свой возраст. Ну а мать? Её мать. Ты женат?
– Если бы я был женат, меня бы тут не было. Её мать умерла семь лет назад.
– Ты вдовец?
– Мы были разведены. Так что технически я не вдовец.
Диана скривила рот и щёлкнула пальцами:
– Разведён. Одиночка. Вдовец. Старпёр. Шизоид. Психопат. Богач. Выпендрёжник. Придурок. Женоненавистник. Я умею находить себе «тех самых». Я удачлива как «Титаник». Ты меня потопишь.
– Ну приехали. Вот это ты ярлыков мне нацепляла.
– Нормальные такие ярлыки. Разве нет? Поправь меня, если я где-то ошиблась.
– Да не буду я поправлять. Если это все «выводы», о чём ещё можно говорить?
Она сделала шаг и оказалась совсем близко. Я уставился на пульсирующую вену у неё на шее, чтобы отвести взгляд от обнажённой груди. Диана кончиками пальцев прикоснулась к шраму на ключице.
– Ты прав… Сейчас ни о чём не будем говорить. Сейчас очень хочется есть, так сильно, что мне даже не стыдно за то, что меня на тебя стошнило. Поэтому вот тебе – потри морковку. Будем делать пирог. То есть нормальную домашнюю еду, а не эти твои дорогие ресторанные штучки.
Она, будто пытаясь стряхнуть наваждение, резко отвернулась, открыла дверцу шкафчика и достала пакет с мукой. Затем высыпала на столешницу, провела по ней ладонью, растирая по поверхности белую пудру, и сверху плюхнула тесто из холодильника.
Я, сдерживая возмущение, усердно принялся тереть морковь, не без удовольствия наблюдая, как она превращается в мелкую стружку. Стиральная машинка громко пискнула, и я устремился в ванную комнату, чтобы поскорее достать постиранную одежду – свой обратный билет домой.
Диана пекла морковные пироги двум голым идиотам, только что отошедшим от действия крепкого алкоголя. Запах выпечки по вентиляции разнёсся так сильно, что, кажется, кто-то из соседей посреди ночи встал и неспешно проследовал на кухню: над нами, этажом выше, раздались шаги и покашливание. Диана, зажав ладонью рот, рассмеялась. Я рассматривал её лицо и обнажённую грудь. Она это заметила и, бросившись к выключателю, погасила свет. В сумерках не стало видно совсем ничего, кроме очертаний лиц под жёлтой лампочкой печи. Но мне и этого было достаточно. Мы уселись на пол и, уставившись в духовку, решили помолчать.
Звенит таймер. Она достаёт пироги. Я беру один, разламываю и говорю: «Горячий какой! Видишь, он дымится». Она смеётся: «Не вижу».
Подношу к свету в духовке.
От пирога исходит благоухающий пар. Пробуем.
Вкуснее, чем если бы светило солнце. Чай нам не нужен. В кухне темно. И уже не так голодно. Запах сохнущей чистой одежды. Запах горячих морковных пирогов.
По сюжету бы сюда робкие прикосновения и жаркие поцелуи.
На небе медленно сгущается очередное дождевое облако.
Закрываю глаза. Кажется, ненадолго, но в следующее мгновение мы уже крепко спим, сидя прямо на полу. Ещё нетрезвая Диана не слышит, как переношу её в спальню, надеваю влажную одежду и ухожу из квартиры, оставляя немытой посуду, тёрку и горящую лампочку в прихожей.
Если бы было всё так просто. Уйти, не выключая свет.
– Твоя машинка уже тоже достирала, – Артур кивнул в сторону. – Разгружай.
В темноте кухни замигала красная лампочка. Вроде бы всё так просто. Только что я рассказал другу об испачканных штанах, об этом тошнотворном ночном приключении, ничем (по версии стереотипов об истинно маскулинном поведении) не закончившемся. Только что рассказал о порезе на пальце. О каких-то мелочах. Мы попутно обсуждали таблетки, презервативы, политику и алкоголь. И да – почти как семейная пара – вот, только что мы обсуждали мебель для кухни. А рассказать о письме, полученном утром, я почему-то ему не мог. Если не ему, то кому? Может, стоит сильнее напиться? Может, к утру что-то исправится? Может, как в старые добрые времена, выпив достаточно, мы выставим стулья наконец за пределы веранды на улицу, и дождь, льющий в это время года как из ведра, промочит нас насквозь, а откровения потекут рекой?..
– Ты, кажется, меня напоить хотел? Так наливай. Сейчас вспорем всю жесть.
Артур удивлённо поднял брови.
– А ты дерзкий парень, как я посмотрю? Это вызов? Я готов. Доставай бокалы.
На ощупь иду к шкафу, открываю деревянные створки и достаю стекло. В мерцающем отражении пузатых бокалов мои щёки смотрятся огромными. Расплываются в мультяшной улыбке.
Рассказать или нет?
– Тогда я соврал той девице, что мне слегка за сорок. То есть у меня духу не хватило сказать настоящий возраст. И я едва не попался, когда она пыталась выяснить, в каком возрасте я стал отцом Алисы. Слегка за сорок и сорок пять не одно и то же, когда разница в возрасте столь существенная. Она же совсем ещё молодая. Интересно, что бы я мог ей дать? В жизни. В будущем. Вообще. Мы поели, посидели там в тишине. Ей было проще: дома ведь всегда есть одежда. Её одежда. Она могла бы одеться, но не сделала этого. И сидела так, без трусиков. Господи боже, я чуть с ума там не сошёл. Я чувствовал её запах. Женский. Когда она поворачивалась так, что было хорошо видно бёдра и тёмную промежность, я возбуждался. Она это замечала. Смотрела туда и улыбалась, как ребёнок, будто там был не мужской половой орган, а какой-то забавный зверёк. А потом она отрубилась прямо на полу. Я обернул её в какое-то полотенце и унёс в постель, пытаясь совладать со своими инстинктами. Так сложно устоять перед красотой юности. Я долго любовался ей, отдаваясь головокружительным ощущениям. Я хотел её. Но разве это не мерзко – начинать жрать изящное ресторанное блюдо руками, когда им можно медленно наслаждаться? И я наслаждался. Смотрел на неё, изучал её. И потом, подумай, если бы мы переспали, уйти было бы куда сложнее. А не уйти я не мог. Это выше моих сил. К отношениям сейчас совсем не готов.
– Эта фраза с тобой уже сколько? Лет восемь? Только и слышу это: «К отношениям я сейчас совсем не готов». Ты одинок! У тебя никого нет! Свободен! Ты сколько лет назад вообще с женщиной был? Какое там не готов? Она не маленькая, чтобы не понимать: иногда люди просто трахаются и расходятся. Она ведь сама хотела с тобой просто перепихнуться. Я бы на твоём месте не парился.
– На моём месте ты всегда нахлёстываешься в баре, как свин, и никогда не доводишь свои влажные мечты до финала. Я хотя бы из бара с ней ушёл.
– Мы с тобой оба неудачники, давай признаемся в этом.
– Согласен. Подпишусь сейчас под каждым твоим словом: МЫ. ОБА. НЕУДАЧНИКИ. Неси бумагу и перо.
– Стало быть, это то откровение, о котором ты хотел поговорить? Или речь о том, как твои заскоки тебе помешали ей вставить и наконец слить спермотоксикоз многолетней давности? Или ты мне сейчас начнёшь лечить за высокую мораль и околорелигиозные принципы?
– Почти.
– О-о-о! Вот, там, где «почти», обычно начинается самое интересное.
Артур встал, подлил ещё коньяку в бокалы. Подошёл к окну и приоткрыл деревянную форточку. Старые дома – немногие из тех мест, где ещё сохранились окна без пластика в деревянных рамах на металлических щеколдах. Он знал, какую из канцелярских кнопок всковырнуть, чтобы сетка от комаров слегка отогнулась в сторону и можно было закурить, а в образовавшуюся щель стряхивать на улицу пепел. Щёлкнула зажигалка. В тёмном оконном проёме появилось облако сигаретного дыма. Этот высокий тяжёлый человек, с блестящим скальпом и взглядом нежного убийцы, при своей нетерпеливости, вспыльчивости и резкости всегда знал, где в разговоре нужно выдержать паузу. И выдерживал её ровно настолько, чтобы подготовиться к любой информации, которую предстоит услышать.
Мы молча выпили. Я тоже взял сигарету. Артур без слов вытащил из ящика стола мой ингалятор и осуждающим взглядом принялся пилить своего друга-астматика, собиравшегося начать акт самоуничтожения. Я выдержал его строгий взгляд и закурил. Алкоголь начал свою работу интенсивнее, с каждой затяжкой проделывая жестокие истязания над сосудами. Сухая, ещё не зажившая трещина на губе снова лопнула, и на белом фильтре показалась кровь. Друг взял салфетку и поднёс её к моему рту. Вытер красные капли. Мы стояли посреди кухни с сигаретами в руках и молча смотрели друг на друга.
Я нарушил неловкое молчание:
– После операции и химиотерапии это уже никогда не прекращалось. Эти трещины на губах… Они напоминание о тех кошмарных трёх месяцах в Израиле. Не заживают и не проходят. Появляются снова и снова. Сейчас ещё ничего, но иногда бывает похуже, и это чертовски неприятно. Я даже улыбаться не могу.
– Я помню. Эта зараза тебя сильно подкосила. Но сейчас ты выглядишь лучше, чем тогда.
Артур взглянул на окровавленную салфетку. Свернул её в трубочку и приложил к носу.
– Твоя кровь даже пахнет теперь по-другому. Пахнет сырой осенью. Я себе на память оставлю. Ты рассказываешь, как пахнут твои девчонки, а я – про твой запах. Мне дорог твой запах. Мне дорог ты. Мне больно. Потому что я переживу тебя, мы оба это знаем. И жить потом, без тебя, мне будет совсем не так, как сейчас. Ещё и видимся теперь редко. Ты совсем запечатался тут, в своём склепе.
Ещё глоток.
Мы с Артуром настолько противоположны, насколько это вообще было возможно. На моём лице растительность практически отсутствовала. Артур же был неприлично щетинистым, из той породы рыжих, которые скорее почти жёлтые. С голубыми глазами, обрамлёнными бесцветными редкими ресницами. И лицо, и руки усыпаны мелкими рыжими веснушками, и всё его тучное, но вместе с тем крепко сбитое тело было в этой золотистой пигментной россыпи. Мы, как солнце и луна, были непохожи друг на друга.
Я стоял напротив него: мертвенно-бледный, с водянистого цвета серо-голубыми глазами, густыми чёрно-каштановыми волосами, непослушными вьющимися прядями обрамляющими лицо с острыми скулами. Астеничный. Тонкий. Длинноногий. С узкими бёдрами и широкоплечий. И он бы мог сломать меня пополам одной левой.
В четырнадцать, назло отцу, я записался в театральный кружок при школе, лишь бы не приходить домой вовремя и не ужинать в этом чёртовом ледяном пространстве, слушая лишь стук вилок и шуршание вечерних газет.
Арти был звездой там, в том театральном классе для деток, чьё поведение выбивалось за рамки школьной морали. И они могли «спускать» свой максимализм и излишки энергии в постановках. Местечковый театральный Мессия расхаживал среди девчонок и читал им проповеди. Его обожали. Его боготворили. Он отсыпал им комплиментов так много, что поток его свиданий, несмотря на грубую внешность, никогда не прекращался. Появившийся «новенький» конкурент – слишком борзый, субтильный, – оказалось, ни во что не ставит его незыблемый авторитет. Пропускает мимо ушей его ценные замечания. Смотрит в окно, а не на его работу. Уводит за собой то одну девчонку, то другую под предлогом проводить их домой. Бездарный. Никчёмный. Но странный, магнетически разворотивший его гарем просто потому, что с внешностью новенькому повезло гораздо больше.
В общем, суть заварухи очевидна.
Была ранняя осень. Самая жаркая осень за всю мою жизнь. Учебный год только начался. Солнце беспощадно выжигало асфальт в школьном дворе, где нам предстояло прояснить авторитеты. Он вытащил меня на крыльцо под каким-то тупым предлогом и злобно шепнул на ухо: «Будешь и дальше тут хвост свой павлиний распускать – я твою еврейскую рожу быстро приведу в непристойный вид, смазливый ублюдок».
Я не знал, на что больше злиться – на «еврея» или «ублюдка», ибо и то и другое было правдой, но мой ядовитый язык быстро выдавил что-то про его тучную полячку-мать, и в следующую минуту он уже двумя руками поднял меня над землёй и швырнул в пыльную клумбу. А потом сам запрыгнул сверху и принялся дубасить кулаками по лицу. Школа стекалась к драке, журча, как весенние ручьи. Детвора оживлённо вываливалась из дверей, а те, кому не досталось места на «смотровой площадке», прилипали к окнам.



