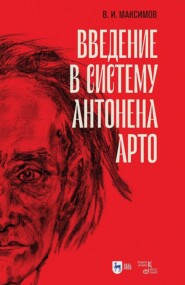
Полная версия:
Введение в систему Антонена Арто
Невозможно лучше выразить подчиненность различных деталей пейзажа явившемуся на небе огню, не показав, что они, обладая собственным светом, все же связаны с ним, как отзвуки далекого эха, как живые отметины, оставленные им здесь, чтобы вовсю развернуть свою разрушительную силу (IV, 42).
Картина, насыщенная энергией, борьбой уровней, планов, света и тени, динамики и статики, поражает собранностью, возможно, даже сосредоточенностью персонажей, как бы ощущающих разрушительно-созидательное действие, невидимое им, но определяющее их в каждое повседневное мгновение.
Кажется, художник знает некоторые тайны линейной гармонии, а также способы заставить ее действовать прямо на мозг, точно химический реактив (IV, 43).
Арто задается вопросом о возможности осмысленного построения картины таким образом, чтобы вызывать воздействие не только через композицию (форму), сюжет (содержание), не только через эстетическое воздействие (взаимодействие того и другого), но и через эмоциональные и физиологические средства. Подобными проблемами занимались художники-постимпрессионисты. Наиболее глубокие исследования воздействия цвета, композиции, направления движения линий в живописи проводились французским психологом Шарлем Анри. В 1880-90-е годы ученый выявил законы взаимодействия формы и цвета, систематизировал эмоции, вызываемые тем или иным цветом, тем или иным направлением движения. Он стремился обнаружить научную основу живописи, поэзии, музыки. Шарль Анри оказал огромное влияние не только на искания художников (П. Сера, П. Синьяка и других)[49], но и на развитие сценографии тех лет[50]. Задачу воздействовать, «точно химический реактив», Арто будет решать применительно к технике актера в статье «Аффективный атлетизм».
Давая замечательную характеристику картине Лукаса, Арто не забывает подчеркнуть, что речь идет о художнике-примитивисте. Конечно, это совсем не тот примитивизм, который возникает как самостоятельная тенденция в живописи последних десятилетий XIX века. Примитивизм как художественное направление конца XIX – начала XX века (творчество Анри Руссо во Франции, Нико Пиросмани в Грузии и параллельные явления в различных странах) осознает и подчеркивает степень условности своих средств, он противопоставляет себя эволюции живописи предшествующих столетий. Ренессансный примитивизм активно использует все достижения своего времени и проявляется в открытости форм, в создании четких образов с исчерпывающей характеристикой. Это, так сказать, подлинный примитивизм, чья примитивность видна лишь столетия спустя. Ренессансный примитивизм не боится включать в пространство картины всю необходимую образность (символ, аллегория, олицетворение), любые содержательные элементы и все известные технические приемы. Этот примитивизм привлек английских прерафаэлитов. Художники конца XIX века используют примитив как одно из важнейших выразительных средств. Художники-новаторы распространяют свои интересы за границы европейской культуры, возникает повсеместный интерес к искусству «примитивных народов» – к первобытному искусству, к ритуальной культуре Африки, Океании. Это еще одна форма примитивизма в искусстве. Современный исследователь отмечает:
Интерес к примитивному искусству как фактору, повлиявшему на формирование современной европейской художественной культуры, как известно, впервые проявился в период возникновения кубизма, причем не только в среде художников, но и со стороны многих авторитетных художественных критиков и историков искусства[51].
Интерес к первобытным культурам овладевает художниками, начиная уже с Поля Гогена, но, разумеется, эти культуры скорее побудительный импульс или объект глубокой стилизации. Иного рода примитивизм пронизывает все искусство дадаизма. Это абстрактный примитивизм, отрицающий любые национально-культурные формы, а не подменяющий европейскую цивилизацию экзотическими культурами. Дадаизм стал предшественником сюрреализма, который использует примитив в преображении реалий обыденной жизни, предельно упрощая ее, но не переходя к абстракции. И именно эту традицию подхватывает и развивает Арто.
Традиция эта во многом отличается от того обывательского интереса к примитивным культурам, который стал характерен с начала XX века и психологическое объяснение которому дал X. Ортега-и-Гассет в статье «Искусство в настоящем и прошлом»:
Называя картину тех далеких времен «примитивной», мы свидетельствуем, что относимся иронически снисходительно к душе автора произведения, душе менее сложной, чем наша. Становится понятным удовольствие, с каким мы будто смакуем этот в одночасье постигаемый нами способ существования, более простой, нежели наша собственная жизнь, которая кажется нам обширной, полноводной и непостижимой, ибо она втягивает нас в свое неумолимое течение, господствует над нами и не позволяет нам господствовать над ней[52].
Пожалуй, для Арто важна прежде всего возможность освободиться от господствующей «цивилизованной» жизни через приобщение к «примитивному». X. Ортега-и-Гассет отмечает стремление некоторых современных художников освободить живописное произведение «от духовной усложненности, от того, что называют литературой или философией»[53].
В 20-е и на рубеже 30-х годов Арто знакомится с театрализованными ритуальными представлениями неевропейских культур – камбоджийцев, марокканских суфиев, балинезийцев, а в середине 30-х – индейцев тараумара. Выразительность форм и эмоциональная чистота этих действ позволила режиссеру увидеть именно здесь прообраз театра будущего. Танцорам с острова Бали он посвящает статьи, вошедшие потом в «Театр и его Двойник». Эти пратеатральные формы воспринимаются не как отрицание эволюции европейских театральных форм, а как содержащие принципиально иную концепцию театральности и обладающие сильнейшими средствами воздействия на естественное сознание зрителя.
Те же достоинства Арто просматривал и в полотнах ренессансных примитивистов. Еще один исследователь примитива, М. Дмитриева, пишет:
Первозданная дикость, восхитительная наивность, не замутненная рефлексией, объединяет как идолы дикарей, так и творения клейнмастеров XVI века или полуремесленные картинки бидермейера, восхищавшие любителей искусства в начале века, произведения «наивов» и кичевые травести высокого искусства в массовой городской культуре – то, что так тонко почувствовал Флоренский и Зощенко, Булгаков и художники-дадаисты. Общность пластических средств, композиционных решений чувства цвета <…> – это во многих случаях, если это не фальсификация и не подделка, – первозданный глас «коллективного бессознательного», прорывающийся с различной силой как в картинах Таможенника Руссо и Любови Майковой, так и Натальи Гончаровой и Эмиля Нольде. Примитив – это та же купель юности, навязчивое видение художников Северного Возрождения, окунувшись в которую, умудренные жизнью люди вновь обретают утраченную юность и чистоту[54].
Все ориентиры крюотического театра замечательным образом согласуются между собой. Потрясший Арто примитивизм содержит в себе мощный заряд коллективного бессознательного, лежащего в основе крюотического театра. О влиянии примитивизма на Арто говорит и тот факт, что единственный спектакль крюотического театра «Семья Ченчи» был оформлен в 1935 году молодым художником-примитивистом Бальтюсом (Бальтазар Клоссовски де Рола, 1908–2001). В 1936 году Арто написал статью «Молодая французская живопись и традиция», в которой сопоставлял Бальтюса и Уччелло.
В связи с описанием «Дочерей Лота» возникает еще одно чрезвычайно важное понятие системы Арто. Среди образов, вызванных картиной Лукаса ван Лейдена, Арто увидел известный сюжет «Государства» Платона.
Впечатление разумной силы, разлитой во внешней природе, и особенно в самой манере ее изображения, чувствуется во многих других деталях картины; примером тому – мост, высотой с восьмиэтажный дом, по которому люди движутся гуськом, как Идеи в пещере Платона (IV, 43).
Символ пещеры из седьмой главы диалога «Государство» является основным понятием платоновского учения об эйдосе («идее»). Сократ рассказывает об узниках в пещере, которые поставлены спиной к свету и не видят, как за их спинами по верхней дороге «люди несут различную утварь». Узники видят лишь тени этих вещей на стене пещеры. Но они принимают за истину тени проносимых мимо предметов и не имеют никакого понятия о мире высших идей – подлинных предметов – так как видят лишь отражения[55]. Символы Платона имеют явное внешнее сходство с изображением на картине Лукаса ван Лейдена: за спинами Лота и дочерей движутся по узкому мосту фигуры, причем одна из фигур несет корзину на голове; источник света расположен за этими фигурами вверху. Платоновское учение об эйдосе оказало сильнейшее влияние на формирование символистской концепции мира символов, как отражения незримого сущностного мира. В свою очередь, символистское мировосприятие было усвоено и переработано Арто. Дорога, вьющаяся на картине вдоль берега моря, пересекает все полотно по диагонали из нижнего правого угла в верхний левый. Возникает как бы еще одна композиционная ось, помимо дерева, делящего картину на левую и правую части. Дорога отделяет повседневный мир Лота от невидимого ему бесконечного мира, залитого божественным светом.
Между этими двумя реальностями – контуры людей на мосту, «несущих различную утварь». Французский философ Ж. М. Рей видит в этом описании картины прямую аналогию артодианского театра:
Это эффект такого же порядка, который должен суметь произвести театр жестокости, показать и, одновременно, заставить услышать[56].
Мы можем домыслить не сказанное впрямую в статье «Режиссура и метафизика»: зритель картины Лукаса ван Лейдена присутствует на представлении, на котором ему открывается то, что незримо для его участников – подлинные причины происходящих явлений, события, сведенные в одно пространство и время.
Вся картина полна для Арто метафизических мыслей. Например, мысли о Неизбежности, когда все фигуры «согнуты под шквалом неодолимого страха».
Есть еще мысль о Хаосе, есть и другие: об Удивительном, о Равновесии, есть даже одна или две о бессилии Слова, – вся эта абсолютно реалистическая и анархическая картина наглядно показывает нам его бесполезность.
Во всяком случае, я думаю, что картина «Дочери Лота» – это то, чем должен быть театр, если бы он сумел заговорить собственным языком.
И я задаю такой вопрос: как же так получается, что в театре, по крайней мере, в театре, каким мы его знаем в Европе, или, лучше сказать, на Западе, все, что является специфически театральным, то есть все то, что не поддается выражению словом, или, если угодно, все то, что не содержится в диалоге (и сам диалог, если на него смотреть с точки зрения его звучания на сцене и связанных с этим задач), остается на последнем плане? (IV, 44–45).
Свое описание картины ван Лейдена, образ Пещеры, увиденный здесь, – все это направлено на то, чтобы показать закостенелость западного театра, который Арто определяет здесь как диалектический. Весь пафос отрицания современного театра Арто направляет на диалог, как принадлежность книги, и на слово, которому противопоставляет язык театра. Этот пафос перекликается с устремлениями других творцов театрального авангарда и прежде всего, Этьена Декру, разрабатывавшего в 20-30-е годы свою концепцию «чистой пантомимы» (фр. «mime риг»), где пантомима становилась не имитацией реальности, а реализацией творческой иллюзии, самостоятельной художественной образностью. Декру был близок Арто. В частности, он играл в спектакле Арто «Игра снов» по пьесе А. Стриндберга в Театре «Альфред Жарри».
Декру исходил из необходимости изгнать из театра все другие искусства, хозяйничающие в нем, и обнаружить собственно театр. В 1931 году он писал:
Если театр в чистом виде является искусством актера, то значит, наш современный театр задыхается под грудой мусора. В театре принято считать, что залог успеха – хороший драматург, а проваливаются плохие актеры. <…> На протяжении последующих 30 лет запретить любой посторонний вид искусства на сцене. <…> В течение первых двадцати лет этого периода актерам запрещается издавать на сцене какие-либо звуки. В последующие пять лет можно разрешить речь при условии, что актеры будут сами импровизировать текст[57].
Совсем иное у Арто. Он не отрицает слово. Но слово, диалог – наряду со всеми другими средствами воздействия – служит для выявления сущности жизни и квинтэссенции сознания, наполненного всеми красками жизни. Поэтому театр возникает у Арто не помимо слов, а через слова или, точнее, до слов.
Синолог и философ В. В. Малявин считает:
Буква отвергается Арто за то, что в ней находит завершение отчуждающая сила репрезентации и отвлеченного порядка рассуждения. Буква ворует слово и вплетает его в каузальную цепь, опутывающую сознание человека. Ниспровержение ее диктатуры означает высвобождение интимного и чувственного аспекта слова. Речь идет не о противопоставлении устного слова письменному, а о возрождении интегрального языка космических соответствий, языка чистого соприкосновения – до-выражающего, до-обнажающего, до-мыслимого; языка, призванного скрыть неутаимое. Он хочет придать слову весомость жеста, духа, дыхания, именно – Вещи, веющей необоримой силой становления. Арто называет это слово «Речью до слов» (Parole d’avant les mots)[58].
В «Театре и его Двойнике» это понятие возникает в связи с описанием Арто спектаклей балийского театра для характеристики главного внутреннего принципа этого древнего восточного театра:
В этом театре всякое творчество идет от сцены, находит свое выражение и даже свои истоки в тайном психическом импульсе, который есть Речь до слов (IV, 72).
Арто утверждает, что этот импульс передается зрительному залу, но не непосредственно, а через все театральные средства. Причем, уходя от однозначности, Арто пишет здесь не «до слов», а «до языка» (d’avant le langage):
На представлениях балийского театра переживается состояние до языка, но которое способно обрести свой язык: музыку, жесты, движения, слова (IV, 74).
Отношение к диалогу, к слову на сцене как к внешнему плану, имеющему более глубокий уровень, исходит из символистской концепции театра, выраженной, в частности, М. Метерлинком в статье «Трагическое повседневное» (1896), где сформулировано понятие диалога «второго порядка» (dialogue «du second degre»), возникающего помимо обыденных слов, но становящегося доступным зрителю, так как он отражает «атмосферу души»[59]. Отталкиваясь от символистского мировосприятия, Арто решает проблему языка театра не вне слова, а как бы углубляясь в слово. Дело в том, что Арто занят поиском общехудожественного синкретического языка. Не случайны его обращения в «Театре и его Двойнике» к различным видам искусства, а современный театр отвергается из-за его многословия (фр. «plus de mots»).
Арто стремится не изгнать слово, а освободить слово. Он приходит к необходимости метаязыка, иероглифа, близкого языку древних ритуалов. Различные художественные направления первых десятилетий XX века ставили подобные задачи. Чаще всего их стремились решить через усложнение языка (например, заумь у футуристов). Мировоззренчески близкий Арто К. Г. Юнг отмечал, что в основе художественного произведения содержится Пра-слово, отражающее коллективное бессознательное.
Искания метаязыка и, в частности, артодпанская Речь до слов включаются в общее стремление величайших умов XX века осмыслить мир через соотношение фактов этого мира и форм этих фактов. Философия XX века разными путями приходила к выводу об автономности (противопоставлении) мира и его формальных проявлений, в том числе словесных обозначений. Наиболее оптимально эта ситуация сформулирована в «Логикофилософском трактате» Людвига Витгенштейна (1918). Объектом философии и познания в целом становился сам язык. Провозглашая самостоятельное существование языка, Витгенштейн мучительно опровергает философию стремлением определить невыразимую субстанцию.
«6.522. В самом деле, существует невысказываемое.
Оно показывает себя, это – мистическое».
«6.45. Переживание мира как ограниченного целого – вот что такое мистическое»[60].
Острота мировосприятия, вызванная «невозможностью говорить», привела в трактате Витгенштейна к завершению формирования антифилософии. Эта острота присутствует и в книге Арто, но дух 30-х годов требовал не констатации, а поисков выхода. Арто ощущает возможность показать Речь до слов, конкретизировать ее. В то же время он решительно отказывается от введения того или иного термина, иначе он оказался бы в том языковом поле, из которого с такими усилиями выводит философию Витгенштейн.
Арто старается не употреблять наиболее уместное здесь понятие иероглиф, чтобы не противопоставлять его слову, ибо иероглиф может включать в себя все возможные средства воздействия, в том числе и слово. Слову Арто противопоставляет «плотный материальный язык» – то, что может физически присутствовать на сцене.
Он состоит из всего того, что находится на сцене, из всего того, что может проявляться и выразить себя на сцене материально, что обращено прежде всего к чувствам, а не к разуму, как язык слов. (Я хорошо знаю, что слова тоже имеют разные возможности звучания, разные способы отражения в пространстве, я это называю интонацией. Можно было бы, впрочем, многое сказать о значении интонации в театре, о той способности, которая есть и у слов, создавать некую музыку, в зависимости от того, как они произносятся, но независимо от их конкретного смысла, и даже иногда вопреки этому смыслу, – создавать в подтексте подземный поток впечатлений, соответствий и аналогий; но такого рода театральное отношение к языку уже является как бы составной частью дополнительного языка для драматурга, с чем он, особенно в настоящее время, совершенно не считается, сочиняя свои пьесы. Так что не стоит об этом и говорить) (IV, 46).
Размышляя над текстами Арто, Жиль Делёз приходит к выводу, что причина полной потери словом своего смысла в «крушении поверхностей», разделявших внешнее и внутреннее. Было бы несправедливо сказать, что к такому выводу приходит сам Арто, но объективное развитие его принципов приводит к этому. Делёз пишет:
Как бы то ни было, слово теряет свой смысл – то есть способность собирать и выражать бестелесный эффект, отличный от действий и страданий тела, а также идеальное событие, отличное от его реализации в настоящем. Каждое событие физично и немедленно воздействует на тело[61].
Таким образом, слово не «пропадает», оно материализуется. Разрушение слова приобретает телесную реальность. (Ж. Делёз говорит даже о «пищеварительной природе» слова как Арто о «пищеварительном театре» – театре умирающем).
Говоря о слове, Арто имеет целью определить задачи драматургии и роль слова, как чувственно-музыкального воздействия. Язык театра для Арто – «поэзия в пространстве». Материальные поэтические образы создаются различными средствами выражения – музыкой, танцем, пантомимой, мимикой, жестом, архитектурой, светом.
Может сложится впечатление, что речь идет о синтетическом театральном действии. Но это лишь возможный вариант внешнего воплощения. Арто уточняет:
Одна из форм поэзии в пространстве – помимо той, которая может быть создана, как и в других видах искусства, из комбинации линий, форм, красок, различных предметов в их первозданном состоянии, – принадлежит языку знаков. Я надеюсь когда-нибудь поговорить об этом новом аспекте чисто театрального языка, не поддающемся слову, о языке знаков, жестов и поз, имеющих идеографическое значение, как и в некоторых неизвращенных пантомимах (IV, 47–48).
Арто называет язык знаков «театральным языком». Обещая вернуться в дальнейшем к этому разговору, он не столько устанавливает связь с последующими статьями о языке, сколько намекает, что в языке знаков не сказано чего-то окончательного во всей книге. В то же время в этой же цитате содержится указание на то, что «знаки, жесты и позы» имеют «идеографическое значение». Ссылка на идеографию, которая использует не буквы, обозначающие звуки, а знаки, выражающие понятия, отражает борьбу Арто против экспансии буквы. Прообразом интегрального языка – иероглифа – является идеографическое письмо: шумерская клинопись, древнеегипетские и китайские иероглифы. Оно предусматривает не только передачу конкретной информации, но и эмоциональное и даже магическое воздействие самим характером начертания, той образностью, которая обязательно в них содержится, и потоком ассоциаций, мгновенно вызываемых в сознании. Идеография не сужает иероглиф до однозначного символа, а углубляет до интегрального прообраза.
Однако в качестве театрального примера возникает у Арто «неизвращенная пантомима» (фр. «pantomime non pervertie»). Антонен Арто пишет:
Под «неизвращенной пантомимой» я понимаю Непосредственную Пантомиму (Pantomime directe), когда жесты изображают не слова и части фраз (как в нашей старой европейской пантомиме, с ее пятидесятилетней историей, являющейся просто деформацией немых сцен итальянской комедии), а представляют идеи, настроения духа, состояния природы, то есть постоянно вызывая в сознании объекты или элементы природы, примерно так, как в знаках восточного языка представляют «ночь», изображая дерево, на котором сидит птица, уже закрывшая один глаз и начинающая закрывать другой (IV, 48).
Под европейской пантомимой Арто разумеет классическую французскую пантомиму, родоначальником которой был Ж.-Б. Дебюро в 1820-30-е годы. До него пантомима во Франции как самостоятельный жанр была ориентирована исключительно на формальные достижения commedia dell’arte в ее французском варианте. Дебюро поднял пантомиму на уровень высокого драматизма и художественной образности. В последние десятилетия XIX века пантомима окончательно сформировалась как искусство, воспроизводящее, изображающее «слова и части фраз». Эпоха режиссерского театра обнаружила потребность в поиске новых возможностей пластики. Пантомима как самостоятельный жанр была реформирована Декру в направлении самостоятельной неизобразительной образности, именно эти тенденции развивали мимы последующих десятилетий. В этом смысле понимание пантомимы (и поиск аналогий в восточном искусстве) как передачи «состояний природы» сближает Арто с Декру.
Тема соотнесения эволюции пантомимы (в русле исканий Декру) и крюотического театра возникает в связи с рецензией Арто на спектакль Жана-Луи Барро «Вокруг матери». Рецензия помещена в конце книги «Театр и его Двойник» вместе с рецензией на фильм братьев Маркс под общим заглавием «Два замечания».
Спектакль Барро «Вокруг матери» поставлен в 1935 году по роману Уильяма Фолкнера «Когда я умираю». Представления состоялись с 4-го по 7-е июня – через 12 дней после постановки самого Арто «Семья Ченчи», в которых принимал участие и Барро. В отличие от грандиозного, но нереализуемого замысла Арто, спектакль Барро имел скромные и выполнимые задачи. В результате возникло целостное художественное произведение, вызвавшее больший резонанс, чем «Семья Ченчи».
Арто впервые опубликовал свою рецензию в «Нувель Ревю Франсез» 1 июля 1935 года под названием «Вокруг матери, драматическое действие Жана-Луи Барро в Театре дё л’Ателье». О своем влиянии на Барро Арто не упоминает и даже не намекает на это. Барро всегда считал Арто одним из своих учителей, а позднее называл себя продолжателем и интерпретатором идей Арто[62]. Однако в связи с данным спектаклем закономерно возникает сопоставление с методом Этьена Декру. При всей значительности постановки она стала, вероятно, не вполне удачным соединением идей Арто (стремление к магическому воздействию, к первичности сценической реальности, соотнесение социального и общечеловеческого) с принципами Декру (пантомимическое образное изображение персонажа и окружающего его мира, соединение их в единую образность).
В своей рецензии Арто дает положительную оценку спектаклю, сравнивая его с представлениями балийского театра, отмечая магическое его воздействие, восхищаясь пластическими образами, особенно «кентавром» (Барро изображает одного из сыновей матери и одновременно коня, на котором тот едет). «Лучшим свидетельством о моей профессиональной пригодности»[63] назвал эту рецензию Барро. При этом Арто совершенно четко показывает, что спектакль не имеет отношения к крюотическому театру, так как пользуется «описательными средствами». Жест – основной материал образной структуры спектакля —
дает нам символическую иллюзию реальности, и именно его действие, каким бы сильным и энергичным оно ни было, в общем не имеет продолжения (IV, 170).



