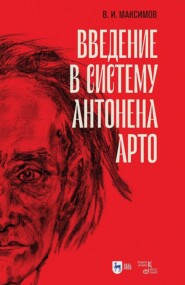
Полная версия:
Введение в систему Антонена Арто
Мартин Хайдеггер в работе «Что такое метафизика?» описывает то состояние, при котором мы способны приблизить наше бытие к недостижимому для науки «Ничто». Это состояние ужаса, противопоставленного боязни. Любопытно наблюдать, как экзистенциалист Хайдеггер развивает одно из главных положений Сёрена Кьеркегора, для которого трепет (боязнь) конкретен и обманчив, а страх подлинен потому, что он не имеет конкретного объекта, он не осознается, не объясняется логически. Страх абсурден. Это положение Хайдеггер насыщает новым пониманием, почерпнутым в символистском мировоззрении, столь распространенном на рубеже веков. Мы приближаемся к «Ничто», – говорит Хайдеггер, – в отдельные мгновения «в фундаментальном настроении ужаса», в молчании, не терпящем суеты, в «оцепенелом покое», когда сущее «ускользает», вещи становятся «как таковыми» и «мы сами… с общим провалом сущего тоже ускользаем сами от себя»[35].
Для Аристотеля страх – это эстетическое состояние, которое рождается в зрителе не вследствие того, что изображается нечто ужасное (в древнегреческом театре изображения вообще нет), и не вследствие того, что об ужасном говорится, а вследствие того, что каждое явление, точнее, каждое событие, неоднозначно и обобщенно. То есть страх неконкретен, предельно обобщен и поэтому достигает такого воздействия.
Переход от единичного к общему касается не только объекта, вызывающего страх. Речь идет, прежде всего, о субъекте – зрителе. Например, зритель, смотрящий «Царя Эдипа» Софокла, с момента завязки предчувствует, что Эдип совершит отцеубийство и инцест. Предчувствие сменяется страхом в тот момент, когда факты обличают Эдипа. Исход очевиден всем, кроме самого Эдипа, отчего драматическое напряжение продолжает возрастать, ибо цель драматурга не в распутывании истории, а в рассмотрении самого Эдипа, с его внутренним конфликтом своеволия и рока, с его жаждой предельного познания. Жена-мать Эдипа Иокаста, поняв истину, кончает с собой. Предчувствие реализовалось. Но зритель – не Иокаста. Его страх вызван не фактом инцеста, а той бездной, которая открывается за любым своеволием: то, от чего человек убегал всю жизнь, все равно его настигло. И кроме того: страх – не за судьбу Эдипа и не за свою судьбу, а за судьбу Человека вообще, который, при всей своей свободе, воле, жажде познания оказывается беспомощным. В развязке, к счастью, это положение будет существенно скорректировано.
Такое же обобщение связано и с состраданием. Сострадание коренным образом отлично от страдания. Существует еще большее количество толкований этого понятия, чем толкований страха. Но суть в том, что переживание зрителя гораздо сильнее и эффективнее того состояния, в котором мог находиться персонаж, или того реального положения, в котором мог оказаться зритель. Это определяется тем же фактором обобщения, постоянного прорыва индивидуальной ситуации за пределы своих границ. Характерный пример – «Мышеловка» в «Гамлете» Шекспира. Клавдий не ощущает своего злодеяния, по крайней мере, способен скрывать свои чувства. Но наблюдение такой же ситуации со стороны и процесс обобщения заставляет его ужаснуться своему деянию, что выражается бурными чувствами. Также и зритель, сострадая Эдипу-царю в кульминации, поднимается вместе с героем на уровень предельного обобщения, где уже не важен персонально ни герой, ни зритель.
Взаимопоглощение в развязке двух сторон конфликта, взаимоуничтожение формы и содержания (вызванного в сознании той же формой) сопряжено с изживанием страха и сострадания и погружением в состояние гармонии (или иначе – с осознанием гармонии).
«Сострадание и страх» (говоря словами Аристотеля) снимаются, благодаря переходу сознания и переживания зрителя (вслед за осознанием героя) из плана индивидуальных переживаний в иной план – общечеловеческих ценностей и идеалов, в свете которых они приобретают положительный смысл и эмоциональную окраску[36].
Понятие катарсис и определяющие его «страх и сострадание» лежат в основе центрального понятия системы Арто – Жестокости. Но об этом разговор впереди. В статье «Театр и чума» проявляется непосредственная связь модернистского крюотического театра с аристотелевской концепцией катарсиса. Прежде всего это касается утверждения, что в основе театра – страх-ужас-зло в его античном трагедийном варианте. Арто говорит здесь именно о Зле, так как на это понятие накладывается еще и символистская традиция, идущая от бодлеровских «Цветов зла», а кроме того, во французском языке «зло» («mal»») обозначает также «болезнь» и тем самым сближается с главным объектом рассмотрения данной статьи – чумой.
Ужасающее явление Зла, которое предстало в своем чистом виде в Элевсинских Мистериях, на самом деле, «явив» там свое лицо, находит отклик в мрачной атмосфере некоторых античных трагедий, и всякий настоящий театр должен заново открыть его (IV, 37).
Другим непосредственным воплощением катартического процесса в крюотическом театре является преодоление конкретных форм, происходящее в развязке (или – взаимоуничтожении формы и содержания). В данном случае схема выглядит так: явления берутся такими, каковы они есть; реальность их обусловлена реальным авторским переживанием на внеличностном уровне каждого взятого явления; таким образом, речь идет о сверхличностном; актер находит художественное выражение, но не в виде метафорического образа, а на сверхреальном уровне. Переход от частных явлений к архетипическому единству составляет все движение спектакля. Два уровня восприятия, возникшие в сознании (субъективный, бытовой и объективный, архетипический), разряжаются в развязке, в момент отождествления реальности внешних событий со сверхреальностью.
Тонко чувствующий мироощущение Арто философ Мераб Мамардашвили в статье «Метафизика Арто» ставит и решает вопрос: «Почему проблема поиска смысла (или проблема мысли – для Мамардашвили) разрешается через форму театра?» Философ объясняет это необходимостью игры, попытки повторения формы, через рождение формы, всегда новой. Это вновь рождение оказывается возможным в театре («театр – физическая организация»), в театре, выходящем за свои физические границы (метафизический театр – по Мамардашвили – противостоящий интеллектуальному). Но особенно важно, что философ объясняет такое понимание театра на примере античности. Тем самым, театральная типология крюотического театра устанавливается непосредственно с античной трагедией. Смысл жизни в том, что все частички жизни, все вещи и события соответствуют друг другу и должны сойтись в некоем космическом единстве. Должны, но не сходятся. А сходятся именно в театре. Именно потому, что здесь нет случайностей. Отсюда возникает жизненный смысл театра.
Греки не случайно в своих трагедиях вводили некий кульминационный момент, который можно определить так: в конце концов все сходится. Но у греков сходится тогда, когда герой умирает. Он своей смертью сводит все смыслы, которые должны были бы раньше сойтись[37].
При всей гениальной неточности этих слов Мамардашвили, суть выражена чрезвычайно глубоко. И все-таки стоит уточнить, что в катартическом процессе «все сходится» именно «в конце концов», то есть в развязке трагедии, в то время как кульминационный момент – это максимальное напряжение конфликта и – по Аристотелю – перелом от завязки к развязке. Что касается мотива смерти как непременного условия «познания-прозрения» героя и воплощения «конечной очевидности», эта тенденция сложилась только к эпохе Ренессанса (реализация христианского мировоззрения: смертию смерть поправ). В трагедии Эсхила, Софокла и особенно Еврипида, познание далеко не всегда связано со смертью и уж никак ею не определяется.
Мысль Мамардашвили не страдает от этих неточностей, а получает невольное обобщение, так как такое понимание театра распространяется не только на античность и модернизм, но и на промежуточный – христианский – период развития культуры. Почему у Мамардашвили выделены античность и XX век? Потому что Арто поставлен в один ряд с Ницше, а для последнего противопоставление античности и послевагнеровской культуры христианству – принципиальный момент. Но о Ницше разговор впереди.
Театральная же концепция Мамардашвили четко сформулирована в небольшой статье «Время и пространство театральности», где театральный процесс рассматривается через сложение знаковой реальности с действительным миром:
В театре зритель ожидает знака, а не реальной вещи. Театр и зритель или театр и общество как бы взаимно посылают друг другу образы друг друга. Взаимно отражаемые[38].
Речь в этом месте идет о том же катартическом процессе, о развязке и соединении смыслов, но здесь философ прибегает к ренессансным реалиям:
И вот существуют такие органы нашего восприятия, как театр, литература и т. д., которые позволяют нам эти смыслы завершить и присутствовать при том, как они слагаются. И поэтому Гамлет берет в руки череп, и за этим черепом стоит все то, сценой для чего эта сцена с черепом является[39].
В этой краткой статье имя Арто не возникает, но очевидно, что понимание театра как катартического процесса, разрешающего основную проблему человеческого существования, идентично у Мамардашвили и Арто.
Развитием и усовершенствованием катартического процесса в системе Арто является использование архетипов (символов-типов). Архетип в крюотическом театре направлен не на выявление того или иного образа, а на преодоление любой формы и выхода на уровень «Ничто».
Еще в переписке с Жаком Ривьером, с опубликования которой началось активное вхождение Арто в литературу, непризнанный поэт утверждал, что все его творчество строится на «Ничто» и творческое начало неразрывно связано с ним. Современный синолог и философ В. В. Малявин, посвятивший Арто специальное исследование, считает, что в основе артодианского мировосприятия лежит «концепция пустоты как вместилища жизненной силы» («Ничто» можно считать европейским вариантом восточного понятия «пустота»).
Эта всеобъятная пустота являет средоточие духовной жизни, нераздельное единство Знания, Искусства, Власти, которое обосновывает все формы культуры, но отчетливо отграничено от них. Арто был знаком с идеей пустоты в китайской традиции и положил ее в основу своего миропонимания[40].
Далее В. В. Малявин приводит цитату из статьи Арто «Вечные тайны культуры», опубликованной в Мексике в 1936 году. Арто, ссылаясь на «Дао дэ цзин», говорит о рационалистичности китайской культуры и принимает идею, что в центре «мирового Всё пребывает пустота»[41]. В. В. Малявин делает вывод, что пустота (фр. «vide») дает Арто возможность преодолеть различные поэзии и науки, то есть решить одну из главнейших проблем западной цивилизации, поставленных модернизмом.
Идея «Пустоты» (санскр. «шунья», кит. «кун») заключает в себе пустоту абсолюта, способность вмещать противоположные смыслы и неприемлемость любой конкретной формы. В каноническом древнеиндийском тексте IV века н. э. «Алмазная сутра», посвященном идее пустоты, говорится о бодхисаттве как об исключающем любой «образ».
Бодхисаттва, упроченный в Законе не должен совершать деяние, пребывая где бы то ни было, не должен совершать деяние пребывая в цветоформе, не должен совершать деяние, пребывая в звуке, запахе, осязательных ощущениях или же пребывая в «законах». Субхути, бодхисаттва, таким образом совершающий деяние, не имеет какого-либо образа[42].
Обращает на себя внимание единство в сознании Арто таких понятий как «ничто» (фр. «nullite») и «все» (фр. «tout»). Вместе с тем, реализация идеи Пустоты в системе Арто происходит по катартическим принципам.
Мы уже упомянули работу М. Хайдеггера «Что такое метафизика?», в которой разрабатывается понятие «Ничто». «Ничто» не подвластно логическому «научному» осмыслению. Поэтому Хайдеггер противопоставляет «Ничто» сущему, которым наука и занимается. Такое разделение чуждо Арто. Говоря о концепции Арто, мы все время говорим о сущем и при этом прибегаем к «Ничто», «Пустоте». Но это кажущееся различие мировоззрений Арто и Хайдеггера вызвано лишь логическим методом доказательств фрейбургского философа.
Хайдеггер исходит из того, что «Ничто есть полное отрицание всей совокупности сущего»[43], и при этом в «Ничто» не сохранятся какие-либо различия, ибо оно не имеет формы. Утрата внешней обманчивости, обнаружения вещи как таковой происходит, как уже говорилось, в состоянии внеконкретного ужаса. Здесь-то и «приоткрывается Ничто». Но не только вещь становится «как таковой», еще важнее «проследить за превращением человека в свое чистое присутствие»[44]. Уходит форма, человек также становится «как таковым». Можно добавить: человеческое уступает место сверхчеловеческому, приобщаясь к «Ничто» (или иначе – катартически перерождаясь). Но вывод Хайдеггера парадоксален: «Ничто» не встречается само по себе или в виде приложения к сущему.
Ничто приоткрывается, собственно, вместе с сущим как в своей полноте ускользающим[45].
То есть мы таким образом достигаем сущего и никакого противопоставления «Ничто» нет, они действительно неразделимы. Хайдеггер показывает, что сущее достижимо именно через свою противоположность – «Ничто», а не научным путем, для которого «Ничто» не существует. Это, собственно, и есть метафизика. Здесь мы видим очевидную близость Хайдеггера и Арто, метод которого тоже метафизический.
Франсуаз Бонардель в книге «Антонен Арто, или Бесконечная верность» показывает мировоззренческую близость Хайдеггера и Арто, но отмечает и различие:
Там, где Хайдеггер решает вопрос «пиетета мысли», Арто внушал уверенность решительно воздействовать на «тело» как пиетет немыслимого и непостижимого[46].
И все-таки нам представляется, что различия касаются только языка – языка философии и языка театра – в то время как методология и поставленные задачи едины.
Одну из важнейших статей своего сборника Арто называет «Режиссура и метафизика», к ней мы вскоре и обратимся.
Примерно в то же время, когда создавалась статья «Вечные тайны культуры», Арто писал предисловие «Театр и культура». В ней, обращаясь к актерскому искусству, Арто ставит задачу актерского творчества как преодоления форм.
Актер никогда дважды не повторяет один и тот же жест.
Он жестикулирует, движется и, конечно, грубо обходится с внешними формами, но, разрушая их, он обнаруживает под их оболочкой то, что долговечней формы и способно воспроизводить ее (IV, 17).
По объективным законам создания художественного произведения возникает форма, имеющая строгую композицию. Творческий акт – это создание и разрушение формы. Преодоление формы в развязке обеспечивает катартическое воздействие на зрителя. Арто, определяя принципы крюотического театра, постоянно соотносит их с всеобщими нормами катартического произведения.
Таким образом, для преодоления форм, для выхода к подлинной сущности человеческого предназначения, предлагается единственно возможный путь – путь театра.
Сейчас весь вопрос в том, найдется ли в этом кружащемся и незаметно убивающем себя мире группа людей, способных утвердить высшую идею театра как естественного магического противовеса тем догмам, в которые мы больше не верим (IV, 39).
Но театр, конечно, это только путь, это лишь инструмент, служащий для достижения главной жизненной цели.
Глава третья
Театр и метафизика
«Режиссура и метафизика». Арто и изобразительное искусство. Ренессансный примитивизм. Паоло Уччелло.
Лукас Ван ден Лейден. Искусство примитива и модернизм рубежа XIX–XX веков. «Пещера» Платона. Отрицание «диалогического театра»: путь Э. Декру и путь Арто.
«Речь-до-слов». Идеографический язык. Рецензия Арто на спектакль «Вокруг матери» Жана-Луи Барро («Два замечания», II). Метафизика театра. Метафизическое у Рене Генона. «Инверсия форм» в фильмах братьев Маркс.
Рецензия Арто «Братья Маркс» («Два замечания», I).
Кинематографические идеи Арто. Миф о «нереализуемости» театра Арто. Метафизический театр и социальные проблемы. Пространственный и временной планы – понятия Анри Бергсона в восприятии Арто. Мексиканские лекции.
В финале статьи «Театр и чума» Арто переводит разговор о чуме к теме возвышенных сил и инертности материи. Театр
призывает дух к безумию, возвышающему силы, и надо понять, в конце концов, что с человеческой точки зрения действие театра благотворно, как и действие чумы, так как, побуждая людей увидеть себя такими, какие они являются на самом деле, театр сбрасывает маски, обличает ложь, вялость, низость, тартюфство, он стряхивает удушающую инертность материи, которая поражает самые светлые свидетельства чувств (IV, 39).
Эти слова как бы подготавливают следующую статью сборника, посвященную «метафизическим проблемам», – «Режиссура и метафизика».
В основе статьи – лекция, прочитанная Арто в Сорбонне 10 декабря 1931 года. Рукопись лекции имеет заглавие «Картина». Толчком для ее написания стало впечатление, полученное Арто в Лувре от полотна Лукаса Ван ден Лейдена «Дочери Лота». В переработанном виде лекция была опубликована в «Нувель Ревю Франсез» 1 февраля 1932 года.
Рассмотрев в предыдущей статье «Театра и его Двойника» природную, физиологическую аналогию крюотического театра и обнаружив те же принципы в пьесе Джона Форда, Арто ищет теперь параллели своей концепции в искусстве прошлых веков, конкретно в живописи[47]. Живопись и декорационное искусство занимали огромное место и в практической деятельности Арто, оформлявшего спектакли Ш. Дюллена, и в его теории. В сюрреалистический период он пишет обзоры выставок, статьи («Развитие декорации», «Люнье-По и живопись» и другие). Среди художников прошлого он особенно высоко ценит Уччелло, Брейгеля, Босха, Эль Греко, Гойю. Итогом его литературной деятельности стало сочинение, написанное незадолго до смерти – «Ван Гог: самоубийство обществом». Впечатление от выставки художника побудило Арто искать сходство между Ван Гогом и собой.
В «Письмах о языке», доказывая, что в основе режиссуры лежит язык жестов (наиболее очевидное проявление иероглифа), Арто называет полотна своих любимых художников, в которых уже воплощено то, что получит полное развитие в театре будущего.
Даже если бы в активе режиссуры не было языка жестов, который вполне достигает уровня языка слов и превосходит его, любая немая постановка, с ее движением, множеством персонажей, с ее освещением и декорациями, могла бы поспорить с тем, что есть самого глубокого на таких полотнах, как «Дочери Лота» Лукаса Ван ден Лейдена, как некоторые «Шабаши» Гойи, некоторые «Воскресения» и «Преображения» Эль Греко, как «Искушение Святого Антония» Иеронима Босха, тревожная и таинственная «Безумная Грета» Брейгеля-старшего, где красный, текущий потоками свет, обозначенный в некоторых местах картины, кажется, льется со всех сторон и какими-то неизвестным мне техническим приемом, останавливает в метре от картины оцепенелый взгляд зрителя. И везде там бурлит театр (IV, 144–145).
Главное место среди живописных пристрастий Арто занимают художники-примитивисты Возрождения. Подобно тому, как английские прерафаэлиты ориентировались на предшественников ренессансных титанов, для Арто на первый план выходят второстепенные имена художников, стремящихся не к светотеневым нюансам, а к яркости и наглядности форм.
Прежде всего, это касается флорентийского художника Паоло Уччелло (1397–1475) – современника Брунеллески, Донателло, Мазаччо. В его живописи важнейшее место занимает пейзаж, Уччелло разрабатывает принцип перспективы. С наивным восхищением он изображает птиц, собак, лошадей, львов. На его картинах «Святой Георгий и принцесса» и «Битва» сражения лишены динамики, преимущество отдано выразительности поз. Почти кукольные фигуры переднего плана застыли на фоне нескольких уровней декораций. Но образы Уччелло настолько красочны и выразительны, что характеристика их представляется полностью исчерпывающей. Открытая фантастичность образов сочетается с наивным отображением реальных современных пейзажей. Живопись Уччелло и его искания в области перспективы не были оценены современниками, хотя следующее поколение художников Ренессанса достигло триумфа еще при жизни примитивиста. Джорджо Вазари упрекает его в отсутствии живой природы и сухости.
Арто привлекала не только живопись Уччелло, но и его одинокая судьба. В 1920 году сюрреалист признается, что образ художника не отпускает его. Эта тема нашла воплощение в прозаическом тексте «Поль Птичий, или Площадь любви». «Уччелло» по-итальянски «птица» и Арто обыгрывает это имя. Текст появился в 1925 году в сборнике «Пуп лимбов», включающем также пьесу «Кровяной фонтан». Затем «Поль Птичий» был переработан для книги «Искусство и смерть» (1929)[48], но и после этого Арто продолжает его исправлять.
Текст представляет собой, скорее, план драмы с включением диалогов. Центральные персонажи – Паоло Уччелло и Брунеллески. Кроме них – Донателло, жена Уччелло Сельваджия и Антонен Арто. По собственному выражению Арто, «действие расслаивается», то есть происходит на нескольких планах, то вторгаясь в сознание «Арто», то отождествляя «Арто» и Уччелло. Жена Уччелло умирает, и художник старается запечатлеть, поймать исчезающую жизнь в искусстве. Он весь погружен в творчество, в мышление, осмысление жизни и смерти. Брунеллески, любящий Сельваджию, возмущен непрактичностью и черствостью Уччелло. Брунеллески – воплощение жизненности, деятельности, Уччелло – служения искусству, ради которого – всё. Третий – Донателло – охарактеризован, как Святой Франциск перед получением стигматов. Чувственность, познание, духовность находятся в бесконечном споре. Некая развязка этого спора даже не предусматривается Арто, но жертва жизни Сельваджии воспринимается, как сама собой разумеющаяся.
Другой ренессансный примитивист, завладевший сознанием Арто, – Лука Лейденский. Лукас Ван ден Лейден (1489/94-1533) – голландский художник и гравер. В его портретах и жанровых картинах сочетаются традиции итальянского Ренессанса, натуралистические приемы Средневековья и маньеристская стилизация. Последняя работа художника, триптих «Христос, исцеляющий слепого», находится в Эрмитаже. Картина «Дочери Лота» написана в 1509 году. Сюжет заключается в следующем. После гибели Содома и Гоморры и окаменения жены, Лот остался один со своими двумя дочерьми и жил в пещере. Старшая дочь подговорила младшую опоить отца вином и сделать отца родителем их детей ради восстановления племени. Так, отмеченный богом, Лот совершает великий грех. У сестер рождаются сыновья, родоначальники племен (Бытие, 19).
Скрупулезно описывая картину мастера Лукаса, Арто выявляет сценическую композицию ее сюжета. Еще не детализируя сцен гибели Содома и Гоморры, поведения Лота, его дочерей, других персонажей, Арто говорит о сильном воздействии произведения теми же словами, которыми он описывал воздействие чумы.
Во всяком случае, ее пафос заметен уже издали, он поражает сознание какой-то ослепительной визуальной гармонией; я хочу сказать, что резкая определенность ее действует целиком и заметна на первый взгляд. Прежде чем разглядишь, о чем идет речь, уже чувствуешь, что здесь происходит нечто значительное… (IV, 40).
Описывая библейские события в их драматическом развитии, Арто видит конфликт разыгрывающегося представления в столкновении бытовых материальных событий и грозных сил природы, являющихся подлинной причиной разворачивающегося сюжета.
Шатер раскинут на берегу моря, перед ним сидит Лот, в доспехах, с прекрасной рыжей бородой, и смотрит на своих прогуливающихся дочерей так, будто он сидит на пирушке у проституток. <…> Слева на картине, чуть в глубине, вздымается невероятной высоты черная башня, которая опирается в основании на целую систему скал, деревьев, тонко вычерченных дорог, обозначенных столбами, и кое-где разбросанных домиков. Благодаря удачно найденной перспективе, одна из этих дорог в какой-то момент отделяется от хаотической путаницы, через которую она проходила, пересекает мост, и в финале на нее падает луч того грозового света, что льется из туч и неровно озаряет округу. Море в глубине картины слишком высоко поднято над горизонтом, и, кроме того, слишком спокойно, если помнить о том огненном сгустке, что клубится в углу неба (IV, 41–42).

Лукас ван ден Лейден. «Дочери Лота», начало XVI в. (Лувр, Париж)
Композиционно картина разделена на две половины – ее рассекает дерево, четко выделяющееся на светлом фоне, растущее как бы из самого Лота и устремленное кроной в небеса, вернее, в светящуюся дыру в небе. Огонь, изливающийся сквозь нависшие тучи, освещает ярким сиянием правую часть полотна. Огромный город, с детально выписанными башнями, шпилями соборов, мостами, крышами домов, рушится и погружается в море. Пейзаж хаоса и гибели застыл в какой-то случайный миг. Эта статичность подчеркивается отмеченным Арто зеркальным спокойствием моря, в которое сползает обреченный город и в котором оцепенели расколовшиеся корабли. Все это занимает правую часть полотна. Левая часть погружена в сумрак и освещена лишь боковым светом, однако не только верхним взрывом, но и неведомым источником слева на переднем плане за пределами картины, что также отмечает Арто. Левая часть полотна – нагромождение скал, нависших над морем, среди которых, чуть ли не на уровне небесного взрыва, замок с черной башней. Контрастность, конфликтная напряженность картины вызвана не только противопоставлением сумрака и ослепительного сияния. Рушащийся город и устремленный ввысь замок равноудалены от переднего плана, но вся левая часть стремится вверх, вся правая – вниз. Остается непостижимым, почему нависшие над морем скалы незыблемы, тогда как город замер на мгновение перед тем, как обратиться в руины. Незыблемость скал таит напряженную динамику, создаваемую взрывом. Рушащийся город оцепенел в свой предсмертный миг, что передается статичной морской гладью. Все это приводит к максимальной напряженности, к единству противоположностей фона, на котором разворачивается сюжет о Лоте и его двух дочерях. В центре перед шатром Лот обнимает одну из дочерей, что-то нашептывая ей на ухо. На переднем плане другая дочь, обернувшись к нам, наливает из сосуда вино. Все трое в современных Лукасу костюмах. Их позы подчеркнуто бытовые и упрощенные. Драматизм сюжета передается исключительно через «борьбу» фона. Обыденность ситуации взрывается под действием неведомых сил, повелевающих персонажами и судьбами городов и замков.



