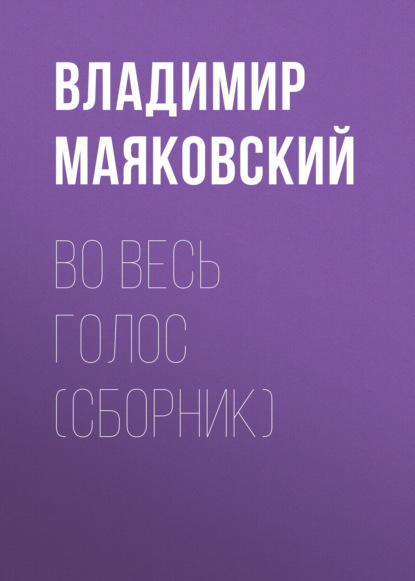 Полная версия
Полная версияВо весь голос (сборник)
успокоят
разумностью критики,
тревожа
свечой
паутину и пыль:
«Какие же ж
это,
товарищ,
москитики,
они же ж,
товарищ,
просто клопы!»
В душе
сомнений
переполох.
Контрасты —
черт задери их!
Страна абрикосов,
дюшесов
и блох,
здоровья
и
дизентерии.
Республику
нашу
не спрятать под ноготь,
шестая
мира
покроется ею.
О,
до чего же
всего у нас много
и до чего же ж
мало умеют!
1928Халтурщик
«Пролетарий
туп жестоко —
дуб
дремучий
в блузной сини!
Он в искусстве
смыслит столько ж,
сколько
свиньи в апельсине.
Мужики —
большие дети.
Крестиянин
туп, как сука.
С ним
до совершеннолетия
можно
только что
сюсюкать».
В этом духе
порешив,
шевелюры
взбивши кущи,
нагоняет
барыши
всесоюзный
маг-халтурщик.
Рыбьим фальцетом
бездарно оря,
он
из опер покрикивает,
он
переделывает
«Жизнь за царя»
в «Жизнь
за товарища Рыкова».
Он
берет
былую оду,
славящую
царский шелк,
«оду»
перешьет в «свободу»
и продаст,
как рев-стишок.
Жанр
намажет
кистью тучной,
но, узря,
что спроса нету,
жанр изрежет
и поштучно
разбазарит
по портрету.
Вылепит
Лассаля
ихняя порода;
если же
никто
не купит ужас глиняный —
прискульптурив
бороду на подбородок,
из Лассаля
сделает Калинина.
Близок
юбилейный риф,
на заказы
вновь добры,
помешают волоса ли?
Год в Калининых побыв,
бодро
бороду побрив,
снова
бюст
пошел в Лассали.
Вновь
Лассаль
стоит в продаже,
омоложенный проворно,
вызывая
зависть
даже
у профессора Воронова.
По наркомам
с кистью лазя,
день-деньской
заказов ждя,
укрепил
проныра
связи
в канцеляриях вождя.
Сила знакомства!
Сила родни!
Сила
привычек и давности!
Только попробуй
да сковырни
этот
нарост бездарностей!
По всем известной вероятности —
не оберешься
неприятностей.
Рабочий,
крестьянин,
швабру возьми,
метущую чисто
и густо,
и, месяц
метя
часов по восьми,
смети
халтуру
с искусства.
1928Секрет молодости
Нет,
не те «молодежь»,
кто, забившись
в лужайку да в лодку,
начинает
под визг и галдеж
прополаскивать
водкой
глотку.
Нет,
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскривлявшись
модой одeж,
подметают
бульвары
клешами.
Нет,
не те «молодежь»,
кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудеж,
на романы
разбазаривает.
Разве
это молодость?
Нет!
Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!
1928Столп
Товарищ Попов
чуть-чуть не от плуга.
Чуть
не от станка
и сохи.
Он —
даже партиец,
но он
перепуган,
брюзжит
баритоном сухим:
«Раскроешь газетину —
в критике вся, —
любая
колеблется
глыба.
Кроют.
Кого?
Аж волосья́
встают
от фамилий
дыбом.
Ведь это —
подрыв,
подкоп ведь это…
Критику
осторожненько
до́лжно вести.
А эти —
критикуют,
не щадя авторитета,
ни чина,
ни стажа,
ни должности.
Критика
снизу —
это яд.
Сверху —
вот это лекарство!
Ну, можно ль
позволить
низам,
подряд,
всем! —
заниматься критиканством?!
О мерзостях
наших
трубим и поем.
Иди
и в газетах срамись я!
Ну, я ошибся…
Так в тресте ж,
в моем,
имеется
ревизионная комиссия.
Ведь можно ж,
не задевая столпов,
в кругу
своих,
братишек, —
вызвать,
сказать:
– Товарищ Попов,
орудуй…
тово…
потише… —
Пристали
до тошноты,
до рвот…
Обмазывают
кистью густою.
Товарищи,
ведь это же ж
подорвет
государственные устои!
Кого критикуют? —
вопит, возомня,
аж голос
визжит
тенорком. —
Вчера —
Иванова,
сегодня —
меня,
а завтра —
Совнарком!»
Товарищ Попов,
оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах —
ложь!
Мы всех зовем,
чтоб в лоб,
а не пятясь,
критика
дрянь
косила.
И это
лучшее из доказательств
нашей
чистоты и силы.
1928Подлиза
Этот сорт народа —
тих
и бесформен,
словно студень, —
очень многие
из них
в наши
дни
выходят в люди.
Худ умом
и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
зря
краснеет
на плечах
не башка —
а набалдашник.
Этот
фрукт
теперь согрет
солнцем
нежного начальства.
Где причина?
В чем секрет?
Я
задумываюсь часто.
Жизнь
его
идет на лад;
на него
не брошу тень Я.
Клад его —
его талант:
нежный
способ
обхожденья.
Лижет ногу,
лижет руку,
лижет в пояс,
лижет ниже, —
как кутенок
лижет
суку,
как котенок
кошку лижет.
А язык?!
На метров тридцать
догонять
начальство
вылез —
мыльный весь,
аж может
бриться,
даже
кисточкой не мылясь.
Все похвалит,
впавши
в раж,
что
фантазия позволит —
ваш катар,
и чин,
и стаж,
вашу доблесть
и мозоли.
И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равненье.
Где-то
будто
вручены
чуть ли не —
бразды правленья.
Раз
уже
в руках вожжа,
всех
сведя
к подлизным взглядам,
расслюнявит:
«Уважать,
уважать
начальство
надо…»
Мы
глядим,
уныло ахая,
как растет
от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
над демократией.
Вея шваброй
верхом,
низом,
сместь бы
всех,
кто поддались,
всех,
радеющих подлизам,
всех
радетельских
подлиз.
1928Сплетник
Петр Иванович Сорокин
в страсти —
холоден, как лед.
Все
ему
чужды пороки:
и не курит
и не пьет.
Лишь одна
любовь
рекой
залила́
и в бездну клонит —
любит
этакой серьгой
повисеть на телефоне.
Фарширован
сплетен
кормом,
он
вприпрыжку,
как коза,
к первым
вспомненным
знакомым
мчится
новость рассказать.
Задыхаясь
и сипя,
добредя
до вашей
дали,
он
прибавит от себя
пуд
пикантнейших деталей.
«Ну… —
начнет,
пожавши руки, —
обхохочете живот,
Александр
Петрович
Брюкин —
с секретаршею живет.
А Иван Иваныч Тестов —
первый
в тресте
инженер —
из годичного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
простите,
скоро —
прибавленье!
Быть возне!
Кстати,
вот что —
целый город
говорит,
что раз
во сне…»
Скрыл
губу
ладоней ком,
стал
от страха остролицым.
«Новость:
предъявил…
губком…
ультиматум
австралийцам».
Прослюнявив новость
вкупе
с новостишкой
странной
с этой,
быстро
всем
доложит —
в супе
что
варилось у соседа,
кто
и что
отправил в рот,
нет ли,
есть ли
хахаль новый,
и из чьих
таких
щедрот
новый
сак
у Ивановой.
Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное —
он скажет:
«Желаю,
чтоб был
мир
огромной
замочной скважиной.
Чтоб, в скважину
в эту
влезши на треть,
слюну
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть —
в чужие
дела и постели».
1928Ханжа
Петр Иванович Васюткин
бога
беспокоит много —
тыщу раз,
должно быть,
в сутки
упомянет
имя бога.
У святоши —
хитрый нрав, —
черт
в делах
сломает ногу.
Пару
коробов
наврав,
перекрестится:
«Ей-богу».
Цапнет
взятку —
лапа в сале.
Вас считая за осла,
на вопрос:
«Откуда взяли?» —
отвечает:
«Бог послал».
Он
заткнул
от нищих уши, —
сколько ни проси, горласт,
как от мухи
отмахнувшись,
важно скажет:
«Бог подаст».
Вам
всуча
дрянцо с пыльцой,
обворовывая трест,
крестит
пузо
и лицо,
чист, как голубь:
«Вот те крест».
Грабят,
режут —
очень мило!
Имя
божеское
помнящ,
он
пройдет,
сказав громилам:
«Мир вам, братья,
бог на помощь!»
Вор
крадет
с ворами вкупе.
Поглядев
и скрывшись вбок,
прошептал,
глаза потупив:
«Я не вижу…
Видит бог».
Обворовывая
массу,
разжиревши понемногу,
подытожил
сладким басом:
«День прожил —
и слава богу».
Возвратясь
домой
с питей —
пил
с попом пунцоворожим, —
он
сечет
своих детей,
чтоб держать их
в страхе божьем.
Жене
измочалит
волосья и тело
и, женин
гнев
остудя,
бубнит елейно:
«Семейное дело.
Бог
нам
судья».
На душе
и мир
и ясь.
Помянувши
бога
на ночь,
скромно
ляжет,
помолясь,
христианин
Петр Иваныч.
Ублажаясь
куличом да пасхой,
божьим словом
нагоняя жир,
все еще
живут,
как у Христа за пазухой,
всероссийские
ханжи.
1928Стихи о разнице вкусов
Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?
Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь
бог седобородый,
что это —
животные
разной породы.
1928Ответ на будущие сплетни
Москва
меня
обступает, сипя,
до шепота
голос понижен:
«Скажите,
правда ль,
что вы
для себя
авто
купили в Париже?
Товарищ,
смотрите,
чтоб не было бед,
чтоб пресса
на вас не нацыкала.
Купили бы дрожки…
велосипед…
Ну
не более же ж мотоцикла!»
С меня
эти сплетни
как с гуся вода;
надел
хладнокровия панцирь.
– Купил – говорите?
Конешно,
да.
Купил,
и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал,
дохл
да тих,
на разных
кобылах-выдрах.
Теперь
забензинено
шесть лошадих
в моих
четырех цилиндрах.
Разят
желтизною
из медных глазниц
глаза —
не глаза,
а жуть!
И целая
улица
падает ниц,
когда
кобылицы ржут.
Я рифм
накосил
чуть-чуть не стог,
аж впору
бухгалтеру сбиться.
Две тыщи шестьсот
бессоннейших строк
в руле,
в рессорах
и в спицах.
И мчишься,
и пишешь,
и лучше, чем в кресле.
Напрасно
завистники злятся.
Но если
объявят опасность
и если
бой
и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
кобылиц подам
товарищу комиссару,
чтоб мчаться
навстречу
жданным годам
в последнюю
грозную свару.
Не избежать мне
сплетни дрянной.
Ну что ж,
простите, пожалуйста,
что я
из Парижа
привез «рено»,
а не духи
и не галстук.
1928Мразь
Подступает
голод к гландам…
Только,
будто бы на пире,
ходит
взяточников банда,
кошельки порастопыря.
Родные
снуют:
– Ублажь да уважь-ка! —
Снуют
и суют
в бумажке барашка.
Белей, чем саван,
из портфеля кончики…
Частники
завам
суют червончики.
Частник добрый,
частник рад
бросить
в допры
наш аппарат.
Допру нить не выдавая,
там,
где быт
и где грызня,
ходит
взятка бытовая, —
сердце,
душу изгрязня.
Безработный
ждет работку.
Волокита
с бирж рычит:
«Ставь закуску, выставь водку,
им
всучи
магарычи!»
Для копеек
пропотелых,
с голодухи
бросив
срам, —
девушки
рабочье тело
взяткой
тычут мастерам.
Чтобы выбиться нам
сквозь продажную смрадь
из грязного быта
и вшивого —
давайте
не взятки брать,
а взяточника
брать за шиворот!
1928Перекопский энтузиазм
Часто
сейчас
по улицам слышишь
разговорчики
в этом роде:
«Товарищи, легше,
товарищи, тише.
Это
вам
не 18-й годик!»
В нору
влезла
гражданка Кротиха,
в нору
влез
гражданин Крот.
Радуются:
«Живем ничего себе,
тихо.
Это
вам
не 18-й год!»
Дама
в шляпе рубликов на́ сто
кидает
кому-то,
запахивая котик:
«Не толкаться!
Но-но!
Без хамства!
Это
вам
не 18-й годик!»
Малого
мелочь
работой скосила.
В унынье
у малого
опущен рот…
«Куда, мол,
девать
молодецкие силы?
Это
нам
не 18-й год!»
Эти
потоки
слюнявого яда
часто
сейчас
по улице льются…
Знайте, граждане!
И в 29-м
длится
и ширится
Октябрьская революция.
Мы живем
приказом
октябрьской воли.
Огонь
«Авроры»
у нас во взоре.
И мы
обывателям
не позволим
баррикадные дни
чернить и позорить.
Года
не вымерить
по единой мерке.
Сегодня
равноценны
храбрость и разум.
Борись
и в мелочах
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$с баррикадной энергией,
в стройку
влей
перекопский энтузиазм.
1929Они и мы
В даль глазами лезу я…
Низкие лесёнки;
мне
сия Силезия
влезла в селезенки.
Граница.
Скука польская.
Дальше —
больше.
От дождика
скользкая
почва Польши.
На горизонте —
белое.
Снега
и Негорелое.
Как приятно
со́ снегу
вдруг
увидеть сосенку.
Конешно —
березки,
снегами припарадясь,
в снежном
лоске
большущая радость.
Километров тыщею
на Москву
рвусь я.
Голая,
нищая
бежит
Белоруссия.
Приехал —
сошел у знакомых картин:
вокзал
Белорусско-Балтийский.
Как будто
у про́клятых
лозунг один:
толкайся,
плюйся
да тискай.
Му́ка прямо.
Ездить —
особенно.
Там —
яма,
здесь —
колдобина.
Загрустил, братцы, я!
Дыры —
дразнятся.
Мы
и Франция…
Какая разница!
Но вот,
врабатываясь
и оглядывая,
как штопается
каждая дырка,
насмешку
снова
ломаешь надвое
и перестаешь
европейски фыркать.
Долой
подхихикивающих разинь!
С пути,
джентльмены лаковые!
Товарищ,
сюда становись,
из грязи́
рабочую
жизнь
выволакивая!
1929Красавицы
(Раздумье на открытии Grand Opéra[7])В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
все мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце
Крашеные губки
розой убиганятся.
Ретушь —
у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины
из газа
цвета лососиньего.
Упадая
с высоты,
пол
метут
шлейфы.
От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет —
в брильянтах уши.
Пошеве́лится шаля —
на грудинке
ряд жемчужин
обнажают
шиншиля.
Платье —
пухом.
Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
да крепдешин,
только
облако жоржет.
Брошки – блещут…
на́ тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы…
голову.
1929Стихи о советском паспорте
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогам,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.
1929Особое мнение
Огромные вопросищи,
огромней слоних,
страна
решает
миллионнолобая.
А сбоку
ходят
индивидумы,
а у них
мнение обо всем
особое.
Смотрите,
в ударных бригадах
Союз,
держат темп
и не ленятся,
но индивидум в ответ:
«А я
остаюсь
при моем,
особом мненьице».
Мы выполним
пятилетку,
мартены воспламеня,
не в пять годов,
а в меньше,
но индивидум
не верит:
«А у меня
имеется, мол,
особое мненьище».
В индустриализацию
льем заем,
а индивидум
сидит в томлении
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мнении.
Колхозим
хозяйства
бедняцких масс,
кулацкой
не спугнуты
злобою,
а индивидумы
шепчут:
«У нас
мнение
имеется
особое».
Субботниками
бьет
рабочий мир
по неразгруженным
картофелям и поленьям,
а индивидумы
нам
заявляют:
«Мы
посидим
с особым мнением».
Не возражаю!
Консервируйте
собственный разум,
прикосновением
ничьим
не попортив,
но тех,
кто в работу
впрягся разом, —
не оттягивайте
в сторонку
и напротив.
Трясина
старья
для нас не годна —
ее
машиной
выжжем до дна.
Не втыкайте
в работу
клинья, —
и у нас
и у массы
и мысль одна
и одна
генеральная линия.
1929Даешь материальную базу!
Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.
«Мне, товарищи,
этажи не в этажи —
мне
удобства подай.
Мне, товарищи,
хочется жить
не хуже,
чем жили господа.
Я вам, товарищи,
не дрозд
и не синица,
мне
и без этого
делов массу.
Я, товарищи,
хочу возноситься,
как подобает
господствующему классу.
Я, товарищи,
из нищих вышел,
мне
надоело
в грязи побираться.
Мне бы, товарищи,
жить повыше,
у самых
солнечных
протуберанцев.
Мы, товарищи,
не лошади
и не дети —
скакать
на шестой,
поклажу взвалив?!
Словом, —
во-первых,
во-вторых
и в-третьих, —
мне
подавайте лифт.
А вместо этого лифта
мне —
прыгать —
работа трехпотая!
Черным углем
на белой стене
выведено криво:
«Лифт
НЕ
работает».
Вот так же
и многое
противно глазу. —
Примуса́, например?!
Дорогу газу!
Поработав,
желаю
помыться сразу.
Бегай —
лифт-мошенник!
Словом,
давайте
материальную базу
для новых
социалистических отношений».
Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных
при социализме.
1929Последний крик
О, сколько
женского народу
по магазинам
рыскают
и ищут моду,
просят моду,
последнюю,
парижскую.
Стихи поэта
к вам
нежны,
дочки
и мамаши.
Я понимаю —
вам нужны
чулки,
платки,
гамаши.
Склонились
над прилавком ивой,
перебирают
пальцы
платьице,
чтоб очень
было бы
красивое
и чтоб
совсем не очень
тратиться.
Но, несмотря
на нежность сильную,
остановлю вас,
тих
и едок:
– Оно
на даму
на субтильную,
для
буржуазных дармоедок.
А с нашей
красотой суровою
костюм
к лицу
не всякий ляжет,
мы
часто
выглядим коровою
в купальных трусиках
на пляже.
Мы выглядим
в атласах —
репою…
Забудьте моду!
К черту вздорную!
Одежду
в Москвошвее

