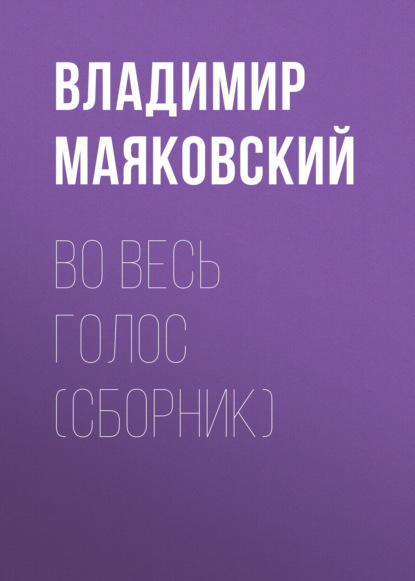 Полная версия
Полная версияВо весь голос (сборник)
сжатый.
Храни пути и речки,
кровь
и кров,
бери врага,
секретчики,
и крой,
КРО!
1927Екатеринбург – Свердловск
Из снегового,
слепящего лоска,
из перепутанных
сучьев
и хвои —
встает
внезапно
домами Свердловска
новый город:
работник и воин.
Под Екатеринбургом
рыли каратики,
вгрызались
в мерзлые
породы и руды —
чтоб на грудях
коронованной Катьки
переливались
изумруды.
У штолен
в боках
корпели,
пока —
Октябрь
из шахт
на улицы ринул,
и…
разослала
октябрьская ломка
к чертям
орлов Екатерины
и к богу —
Екатерины
потомка.
И грабя
и испепеляя,
орда растакая-то
прошла
по городу,
войну волоча.
Порол Пепеляев.
Свирепствовал Га́йда.
Орлом
клевался
верховный Колчак.
Потухло
знамен
и пожаров пламя,
и лишь
от него
как будто ожог,
сегодня
горит —
временам на память —
в свердловском небе
красный флажок.
Под ним
с простора
от снега светлого
встает
новорожденный
город Све́рдлова.
Полунебоскребы
лесами поднял,
чтоб в электричестве
мыть вечера́,
а рядом —
гриб,
дыра,
преисподняя,
как будто
у города
нету
«сегодня»,
а только —
«завтра»
и «вчера».
В санях
промежду
бирж и трестов
свисти
во весь
широченный проспект.
И…
заколдованное место:
вдруг
проспект
обрывает разбег.
Просыпали
в ночь
расчернее могилы
звезды-табачишко
из неба-кисета.
И грудью
топок
дышут Тагилы,
да трубки
заводов
курят в Исети.
У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли
Урала,
труда
и энергии!
1928Две культуры
Пошел я в гости
(в те года),
не вспомню имя-отчества,
но собиралось
у мадам
культурнейшее общество.
Еда
и поэтам —
вещь нужная.
И я
поэтому
сижу
и ужинаю.
Гляжу,
культурой поражен,
умильно губки сжав.
Никто
не режет
рыб ножом,
никто
не ест с ножа.
Поевши,
душу веселя,
они
одной ногой
разделывали
вензеля,
увлечены тангой.
Потом
внимали с мужеством,
упившись
разных зелий,
романсы
(для замужества!)
двух мадмуазелей.
А после
пучили живот
утробным
низким ржаньем,
слушая,
кто с кем живет
и у кого
на содержании.
Графине
граф
дает манто,
сияет
снег манжет…
Чего еще?
Сплошной бонтон.
Сплошное бламанже.
Гостям вослед
ушли когда
два
заспанных лакея,
вызывается
к мадам
кухарка Пелагея.
«Пелагея,
что такое?
где еще кусок
жаркое?!»
Мадам,
как горилла,
орет,
от гнева розовая:
«Снова
суп переварила,
некультурное рыло,
дура стоеросовая!»
Так,
отдавая дань годам,
поматерив на кухне,
живет
культурная мадам
и с жиру
мордой пухнет.
В Париже
теперь
мадам и родня,
а новый
советский быт
ведет
работницу
к новым дням
от примусов
и от плит.
Культура
у нас —
не роман да балы,
не те
танцевальные пары.
Мы будем
варить
и мыть полы,
но только
совсем не для барынь.
Работа
не знает
ни баб, ни мужчин,
ни белый труд
и ни черный.
Ткачихе с ткачом
одинаковый чин
на фабрике
раскрепощенной.
Вглубь, революция!
Нашей стране
другую
дорогу
давая,
расти
голова
другая
на ней,
осмысленная
и трудовая.
Культура
новая,
здравствуй!
Смотри
и Москва и Харьков —
в Советах
правят государством
крестьянка
и кухарка.
1928Служака
Появились
молодые
превоспитанные люди —
Мопров
знаки золотые
им
увенчивают груди.
Парт-комар
из МКК
не подточит
парню
носа:
к сроку
вписана
строка
проф-
и парт-
и прочих взносов.
Честен он,
как честен вол.
В место
в собственное
вросся
и не видит
ничего
дальше
собственного носа.
Коммунизм
по книге сдав,
перевызубривши «измы»,
он
покончил навсегда
с мыслями
о коммунизме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
сиди
и жди.
– Нам, мол,
с вами
думать неча,
если
думают вожди. —
Мелких дельцев
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежно,
узколобо.
День – этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам, —
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,
гордо
выпячены
груди,
ходят
тихо
молодые
приспособленные люди.
О коряги
якорятся
там,
где тихая вода…
А на стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.
Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
с ихней честностью?
Комсомолец,
живя
в твои лета́,
октябрьским
озоном
дыша,
помни,
что каждый день —
этап,
к цели
намеченной
шаг.
Не наши —
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь;
быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.
У нас
еще
не Эдем и рай —
мещанская
тина с цвелью.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромной
поставленной целью.
1928Критика самокритики
Модою —
объяты все:
и размашисто
и куце,
словно
белка в колесе
каждый
самокритикуется.
Сам себя
совбюрократ
бьет
в чиновничие перси.
«Я
всегда
советам рад.
Критикуйте!
Я —
без спеси.
Но…
С тенгазное мычанье…
Где
в рабкоре
толку статься?
Вы
пишите замечания
и пускайте
по инстанциям».
Самокритик
совдурак
рассуждает,
помпадурясь:
«Я же ж
критике
не враг.
Но рабкорь —
разводит дурость.
Критикуйте!
Не обижен.
Здравым
мыслям
сердце радо.
Но…
чтоб критик
был
не ниже,
чем
семнадцтого разряда».
Сладкогласый
и ретивый
критикует подхалим.
С этой
самой
директивы
не был
им
никто
хвалим.
Сутки
сряду
могут крыть
тех,
кого
покрыли свыше,
чтоб начальник,
видя прыть,
их
из штатов бы
не вышиб.
Важно
пялят
взор спецы́
на критическую моду, —
дескать —
пойте,
крит-певцы,
языком
толчите воду.
Много
было
каждый год
разударнейших кампаний.
Быть
тебе
в архиве мод —
мода
на самокопанье.
А рабкор?
Рабкор —
смотрите! —
приуныл
и смотрит криво:
от подобных
самокритик
у него
трещит
загривок.
Безработные ручища
тычет
зря
в карманы он.
Он —
обдернут,
он —
прочищен,
он зажат
и сокращен.
Лава фраз —
не выплыть вплавь.
Где размашисто,
где куце,
модный
лозунг
оседлав,
каждый —
самокритикуется.
Граждане,
вы не врите-ка,
что это —
самокритика!
Покамест
точат начальники
демократические лясы,
меж нами
живут молчальники —
овцы
рабочего класса.
А пока
молчим по-рабьи,
бывших
белых
крепнут орды —
рвут,
насилуют
и грабят,
непокорным —
плющат морды.
Молчалиных
кожа
устроена хи́тро:
плюнут им
в рожу —
рожу вытрут.
«Не по рылу грохот нам
где ж нам
жаловаться?
Не прощаться ж
с крохотным
с нашим
с жалованьицем».
Полчаса
в кутке
покипят,
чтоб снова
дрожать начать.
Эй,
проснитесь, которые спят!
Разоблачай
с головы до пят.
Товарищ,
не смей молчать!
1928«Общее» и «мое»
Чуть-чуть еще, и он почти б был положительнейший тип.
Иван Иваныч —
чуть не «вождь»,
дана
в ладонь
вожжа ему.
К нему
идет
бумажный дождь
с припиской —
«уважаемый».
В делах умен,
в работе —
быстр.
Кичиться —
нет привычек.
Он
добросовестный службист —
не вор,
не волокитчик.
Велик
его
партийный стаж,
взгляни в билет —
и ахни!
Карманы в ручках,
а уста ж
сахарного сахарней.
На зависть
легкость языка,
уверенно
и пусто
он,
взяв путевку из ЭМКА,
бубнит
под Златоуста.
Поет
на соловьиный лад,
играет
слов
оправою
«о здравии комсомолят,
о женском равноправии».
И, сняв
служебные гужи,
узнавши,
час который,
домой
приедет, отслужив,
и…
опускает шторы.
Распустит
он
жилет…
и здесь,
– здесь
частной жизни часики! —
преображается
весь
по-третье-мещански.
Чуть-чуть
не с декабристов
род —
хоть предков
в рамы рамьте!
Но
сына
за уши
дерет
за леность в политграмоте.
Орет кухарке,
разъярясь,
супом
усом
капая:
«Не суп, а квас,
который раз,
пермячка сиволапая!..»
Живешь века,
века учась
(гении
не ро́дятся).
Под граммофон
с подругой
час
под сенью штор
фокстротится.
Жена
с похлебкой из пшена
сокращена
за древностью.
Его
вторая зам-жена
и хороша,
и сложена,
и вымучена ревностью.
Елозя
лапой по ногам,
ероша
юбок утлость,
он вертит
по́д носом наган:
«Ты с кем
сегодня
путалась?..»
Пожил,
и отошел,
и лег,
а ночь
научит нити…
Попробуйте,
под потолок
теперь
к нему
взгляните!
И сразу
он
вскочил и взвыл.
Рассердится
и визгнет:
«Не смейте
вмешиваться
вы
в интимность
частной жизни!»
Мы вовсе
не хотим бузить.
Мы кроем
быт столетний.
Но, боже…
Марксе, упаси
нам
заниматься сплетней!
Не будем
в скважины смотреть
на дрязги
в вашей комнате.
У вас
на дом
из суток —
треть,
но знайте
и помните:
глядит
мещанская толпа,
мусолит
стол и ложе…
Как
под стекляннейший колпак,
на время
жизнь положим.
Идя
сквозь быт
мещанских клик,
с брезгливостью
преувеличенной,
мы
переменим
жизни лик,
и общей,
и личной.
1928Казань
Стара,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум…
бурум…»
По-родному
тараторя,
снегом
лужи
намарав,
у подворья
в коридоре
люди
смотрят номера.
Кашляя
в рукава,
входит
робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.
Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски».
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
двери
встретил третий.
«Марш
ваш —
наш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь.
Марш
вашинский
так по-чувашски…»
Как будто
годы
взял за чуб я —
– Станьте
и не пылите-ка! —
рукою
своею собственной
щупаю
бестелое слово
«политика».
Народы,
жившие,
въямясь в нужду,
притершись
Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя
на штурм,
на камень,
на крепость культур.
Крива,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум…
бурум…»
1928Трус
В меру
и черны и русы,
пряча взгляды,
пряча вкусы,
боком,
тенью,
в стороне, —
пресмыкаются трусы
в славной
смелыми
стране.
Каждый зав
для труса —
туз.
Даже
от его родни
опускает глазки трус
и уходит
в воротник.
Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:
«Схорониться б
за приказ…
Спрятаться б
за циркуляр…»
Не поймешь,
мужчина,
рыба ли —
междометья
зря
не выпалит.
Где уж
подпись и печать!
«Только бы
меня не выбрали,
только б
мне не отвечать…»
Ухо в метр
– никак не менее —
за начальством
ходит сзади,
чтоб, услышав
ихнье
мнение,
завтра
это же сказать им.
Если ж
старший
сменит мнение,
он
усвоит
мненье старшино:
– Мненье —
это не именье,
потерять его
не страшно. —
Хоть грабьте,
хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
ни вой.
«Наше дело
маленькое —
я сам по себе
не великий немой,
и рот
водою
наполнен мой,
вроде
умывальника я».
Трус
оброс
бумаг
корою.
«Где решать?!
Другие пусть.
Вдруг не выйдет?
Вдруг покроют?
Вдруг
возьму
и ошибусь?»
День-деньской
сплетает тонко
узы
самых странных свадеб —
увязать бы
льва с ягненком,
с кошкой
мышь согласовать бы.
Весь день
сердечко
ужас крои́т,
предлогов для трепета —
кипа.
Боится автобусов
и Эркаи,
начальства,
жены
и гриппа.
Месткома,
домкома,
просящих взаймы,
кладби́ща,
милиции,
леса,
собак,
погоды,
сплетен,
зимы
и
показательных процессов.
Подрожит
и ляжет житель,
дрожью
ночь
корежит тело…
Товарищ,
чего вы дрожите?
В чем,
собственно,
дело?!
В аквариум,
что ли,
сажать вас?
Революция требует,
чтобы имелась
смелость,
смелость
и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.
1928Помпадур
Член ЦИКа тов. Рухула Алы Оглы Ахундов ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда Москва – Харьков за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания тов. Ахундов выложил свой циковский билет.
«Правда», № 111/3943Мне неведомо,
в кого я попаду,
знаю только —
попаду в кого-то…
Выдающийся
советский помпадур
выезжает
отдыхать
на во́ды.
Как шар,
положенный
в намеченную лузу,
он
лысой головой
для поворотов —
туг
и носит
синюю
положенную блузу,
как министерский
раззолоченный сюртук.
Победу
масс,
позволивших
ему
надеть
незыблемых
мандатов латы,
немедля
приписал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.
Со всякой массою
такой
порвал давно.
Хоть политический,
но капиталец —
нажит.
И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
«володеть и княжить».
Внизу
какие-то
проходят, семеня, —
его
не развлечешь
противною картиной.
Как будто говорит:
«Не трогайте
меня
касанием плотвы
густой,
но беспартийной».
С его мандатами
какой,
скажите,
риск?
С его знакомствами
ему
считаться не с кем.
Соседу по столу,
напившись в дым и дрызг,
орет он:
«Гражданин,
задернуть занавеску!»
Взбодрен заручками
из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего
награждает оплеухой,
и собеседник
сверзился под стол,
придерживая
окровавленное ухо.
Расселся,
хоть на лбу
теши дубовый кол, —
чего, мол,
буду объясняться зря я?!
Величественно
положил
мандат на протокол:
«Прочесть
и расходиться, козыряя!»
Но что случилось?
Не берут под козырек?
Сановник
под значком
топырит
грудью
платье.
Не пыжьтесь, помпадур!
Другой зарок
дала
великая
негнущаяся партия.
Метлою лозунгов
звенит железо фраз,
метлою бурь
по дуракам подуло.
– Товарищи,
подымем ярость масс
за партию,
за коммунизм,
на помпадуров! —
Неизвестно мне,
в кого я попаду,
но уверен —
попаду в кого-то…
Выдающийся
советский помпадур
ехал
отдыхать на во́ды.
1928Стих
не про дрянь,
а про дрянцо
Дрянцо
хлещите
рифм концом
Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.
Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.
Лезет
бытище
в щели во все.
Подновили житьишко,
предназначенное на слом,
человек
сегодня
приспособился и осел,
странной разновидностью —
сидящим ослом.
Теперь —
затишье.
Теперь не наро́дится
дрянь
с настоящим
характерным лицом.
Теперь
пошло
с измельчанием народца
пошлое,
маленькое,
мелкое дрянцо.
Пережил революцию,
до нэпа до́жил
и дальше
приспособится,
хитер на уловки…
Очевидно —
недаром тоже
и у булавок
бывают головки.
Где-то
пули
рвут
знамённый шелк,
и нищий
Китай
встает, негодуя,
а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и не дует.
Тихо, тихо
стираются грани,
отделяющие
обывателя от дряни.
Давно
канареек
выкинул вон,
нечего
на птицу тратиться.
С индустриализации
завел граммофон
да канареечные
абажуры и платьица.
Устроил
уютную
постельную нишку.
Его
некультурной
ругать ли гадиною?!
Берет
и с удовольствием
перелистывает книжку,
интереснейшую книжку —
сберегательную.
Будучи
очень
в семействе добрым,
так
рассуждает
лапчатый гусь:
«Боже
меня упаси от допра,
а от Мопра —
и сам упасусь».
Об этот
быт,
распухший и сальный,
долго
поэтам
язык оббивать ли?!
Изобретатель,
даешь
порошок универсальный,
сразу
убивающий
клопов и обывателей.
1928Крым
И глупо звать его
«Красная Ницца»,
и скушно
звать
«Всесоюзная здравница».
Нашему
Крыму
с чем сравниться?
Не́ с чем
нашему
Крыму
сравниваться!
Надо ль,
не надо ль,
цветов наряды —
лозою
шесточек задран.
Вином
и цветами
пьянит Ореанда,
в цветах
и в вине —
Массандра.
Воздух —
желт.
Песок —
желт.
Сравнишь —
получится ложь ведь!
Солнце
шпарит.
Солнце —
жжет.
Как лошадь.
Цветы
природа
растрачивает, соря —
для солнца
светлоголового.
И все это
наслаждало
одного царя!
Смешно —
честное слово!
А теперь
играет
меж цветочных ливней
ветер,
пламя флажков теребя.
Стоят санатории
разных именей:
Ленина,
Дзержинского,
Десятого Октября.
Братва —
рада,
надела трусики.
Уже
винограды
закручивают усики.
Рад
город.
При этаком росте
с гор
скоро
навезут грозди.
Посмотрите
под тень аллей,
что ни парк —
народом полон.
Санаторники
занимаются
«волей»,
или
попросту
«валяй болом».
Винтовка
мишень
на полене долбит,
учатся
бить Чемберлена.
Целься лучше:
у лордов
лбы
тверже,
чем полено.
Третьи
на пляжах
себя расположили,
нагоняют
на брюхо
бронзу.
Четвертые
дуют кефир
или
нюхают
разную розу.
Рвало
здесь
землетрясение
дороги петли,
сакли
расшатало,
ухватив за край,
развезувился
старик Ай-Петри.
Ай, Петри!
А-я-я-я-яй!
Но пока
выписываю
эти стихи я,
подрезая
ураганам
корни,
рабочий Крыма
надевает стихиям
железобетонный намордник.
25 июля 1928 г., АлупкаЕвпатория
Чуть вздыхает волна,
и, вторя ей,
ветерок
над Евпаторией.
Ветерки эти самые
рыскают,
гладят
щеку евпаторийскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовыми
евпаторийцами.
Скрип уключин,
всплески
и крики —
развлекаются
евпаторийки.
В дым черны,
в тюбетейках ярких
караимы
евпаторьяки.
И, сравнясь,
загорают рьяней
москвичи —
евпаторьяне.
Всюду розы
на ножках тонких.
Радуются
евпаторёнки.
Все болезни
выжмут
горячие
грязи
евпаторячьи.
Пуд за лето
с любого толстого
соскребет
евпаторство.
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.
Евпатория 3 августа 1928 г.Земля наша обильна
Я езжу
по южному
берегу Крыма, —
не Крым,
а копия
древнего рая!
Какая фауна,
флора
и климат!
Пою,
восторгаясь
и озирая.
Огромное
синее
Черное море.
Часы
и дни
берегами едем,
слезай,
освежайся,
ездой умо́рен.
Простите, товарищ,
купаться негде.
Окурки
с бутылками
градом упали —
здесь
даже
корове
лежать не годится,
а сядешь в кабинку —
тебе
из купален
вопьется
заноза-змея
в ягодицу.
Огромны
сады
в раю симферопольском, —
пудами
плодов
обвисают к лету.
Иду
по ларькам
Евпатории
обыском, —
хоть четверть персика! —
Персиков нету.
Побегал,
хоть версты
меряй на счетчике!
А персик
мой
на базаре и во́ поле,
слезой
обливая
пушистые щечки,
за час езды
гниет в Симферополе.
Громада
дворцов
отдыхающим нравится.
Прилег
и вскочил от кусачей тоски ты,
и крик
содрогает
спокойствие здравницы:
– Спасите,
на помощь,
съели москиты! —
Но вас

