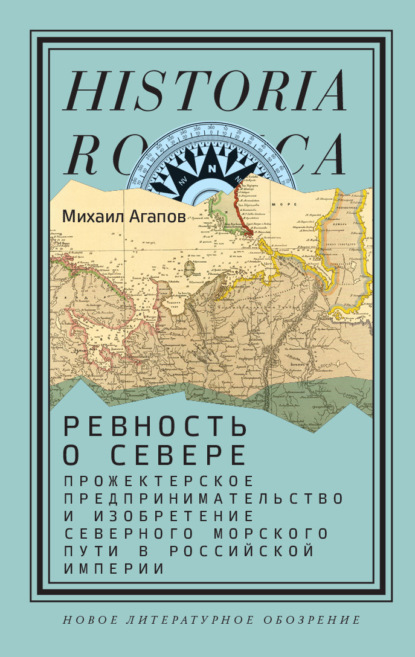
Полная версия:
Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи
Лесную промышленность и экспорт в бассейнах Северной Двины и Онеги целиком захватили иностранные, в основном английские фирмы, опиравшиеся на всестороннюю поддержку царских властей… Выход печорской лиственницы на мировой лесной рынок [обеспеченный Печорской компанией В. Н. Латкина] явно напугал фирмы, хищнически эксплуатировавшие лесные богатства в бассейне Северной Двины и Онеги. В результате их происков Министерство государственных имуществ резко ухудшило условия лесоразработок для Печорской компании… Печорская лесная промышленность всячески ущемлялась в угоду иностранным фирмам, эксплуатировавшим русские леса на Северной Двине и Онеге83.
Как видно, созданная В. Н. Латкиным и М. К. Сидоровым национализирующая риторика, переводящая вопросы экономической конкуренции на язык межнационального конфликта и конспирологии, оказалась вполне релевантной для руководствующихся идеологией советского патриотизма отечественных ученых в 1950-х годах. Этот подход был закреплен в изданной в Москве в 1956 году работе М. И. Белова «Арктические мореплавания с древнейших времен до середины XIX века» – первом томе фундаментальной четырехтомной «Истории открытия и освоения Северного морского пути». В частности, описывая экономическое положение Европейского Севера России в 1860–1870-х годах, М. И. Белов просто давал слово «поборнику освоения Севера» М. К. Сидорову:
…к этому времени наиболее важные экономические позиции Поморья были захвачены иностранными фирмами. Многие из них организовали в Поморье дочерние филиалы, во главе которых стояли обычно иностранцы, для виду принявшие русское подданство. В Архангельске обосновались, например, такие «русские» торговые дома, как В. Брандт и сыновья, Родде, Фанбрин, Морган, Дорбеккер, Брюст и К. Царские чиновники, падкие на взятки, передали им все командные позиции в лесных и рыбных промыслах. Любое проявление русской торгово-промысловой инициативы непременно встречалось ими в штыки (Сидоров М. К. О китоловстве и влиянии его на рыбную ловлю у берегов Архангельской губернии. СПб., 1879)84.
Важно подчеркнуть, что оценки М. К. Сидорова не подвергались советскими исследователями ни малейшему сомнению. Высказывания противников «ревнителей Севера» приводились по цитатам из сочинений самих «ревнителей» без ссылок на первоисточник только для того, чтобы наглядно продемонстрировать глупость, косность и сервильность перед «иностранцами» противников М. К. Сидорова. Оппоненты «русских капиталистов-патриотов» не получали слова, логика их действий заведомо объяснялась исключительно жаждой наживы, коррумпированностью или изначальной ненавистью ко всему русскому. Таким образом сложнейшие противоречия российского северного предпринимательства середины – второй половины XIX века, их множественные контексты редуцировались до простой черно-белой картинки.
В вышедшей в Москве в 1962 году работе Д. М. Пинхенсона «Проблемы северного морского пути в эпоху капитализма» – втором томе «Истории открытия и освоения Северного морского пути» – целый раздел посвящался М. К. Сидорову, он назывался «М. К. Сидоров – инициатор использования морского пути в Сибирь». При его написании использовались некоторые документы из фондов Центрального государственного архива Военно-морского флота (ныне – Российский государственный архив Военно-морского флота, РГА ВМФ) и Архива АН СССР в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, СПбФ АРАН), но основными источниками являлись сочинения самого М. К. Сидорова и Ф. Д. Студитского, выступавших как непререкаемые авторитеты. При этом Д. М. Пинхенсон значительно сместил акцент с образа М. К. Сидорова – «неуслышанного пророка» (каким его представлял Ф. Д. Студитский) на образ «капиталиста-патриота», непримиримого борца с «иностранным засильем»:
С юных лет он [М. К. Сидоров] проникся глубокой неприязнью к иностранным предпринимателям, которые, пользуясь попустительством царских властей, захватили в свои руки командные позиции в экономике севера и наносили явный ущерб национальным интересам России. Позднее, уже с середины 50-х годов, в пору своей активной предпринимательской деятельности, Сидоров неустанно разоблачал происки хищнического иностранного капитала и с патриотических позиций ратовал за экономическое развитие русского Севера… в борьбе против засилья иностранцев он видел одно из главных условий прогресса России85.
В позднесоветской официальной научной и научно-популярной литературе В. Н. Латкин и М. К. Сидоров упоминались, как правило, в контексте истории открытия и освоения Северного морского пути. В некоторых монографиях (посвященных, впрочем, другим персонажам) им уделялись целые разделы86. В 1971 году в «Летописи Севера» была опубликована статья И. Л. Фрейдина, целиком посвященная М. К. Сидорову87. По своему тону публикации 1970–1980-х годов были близки технократическому подходу В. Ю. Визе, воздававшему «ревнителям Севера» дань уважения как основоположникам современного арктического мореплавания. Известный историк освоения Российской Арктики В. М. Пасецкий особо отмечал как важный положительный момент существенный вклад М. К. Сидорова в развитие международного сотрудничества в деле освоения Арктики. Лишь в редких случаях упоминалось о том, что вместе с тем М. К. Сидоров был прежде всего выдающимся дилетантом, к тому же не брезгующим мошенническими схемами88. Хотя советские историки помнили о «ревнителях Севера», ни один из них не был удостоен отдельного научного монографического исследования. Даже в 1930–1950-х годах, на волне арктического бума, они не попали в государственный исторический пантеон.
В то же время на низовом уровне заметный интерес к В. Н. Латкину и М. К. Сидорову проявлялся в сфере вступившего в последнее советское десятилетие в период нового подъема локального историко-культурного активизма (краеведения)89. Яркие неординарные и вместе с тем малоизвестные персонажи минувших дней были востребованы в качестве своеобразных гениев места, маркирующих его уникальность. В таком ключе в 1970–1980-х годах о дореволюционных северных предпринимателях писали краеведы Печоры90 и Сибири91. Как дисциплина идентичности92 краеведение часто сближалось с националистической фрондой и подпитывалось ее идеями93. Знаменательно в этой связи обращение к М. К. Сидорову одного из самых популярных спикеров «русской партии» писателя В. Пикуля. В посвященной М. К. Сидорову одной из своих «исторических миниатюр» писатель восклицал: «…Велик был сей человек! Вот уж воистину велик! <…> Не его вина, что он обогнал свой век, опередил свое время, а под старость оказался у разбитого корыта». Главным виновником бед М. К. Сидорова В. Пикуль считал основателя ИРГО, президента Академии наук (1864–1882) адмирала Ф. П. Литке: «Ф. П. Литке, возглавлявший тогда Русское географическое общество, был тормозом на путях русской науки; страшный обскурант и реакционер (о чем у нас мало кто знает), он не верил в силы русского народа и поддерживал лишь те начинания, которые исходили от немцев»94. Стоит заметить, что ни идеологи послевоенного советского патриотизма, ни сам М. К. Сидоров, получавший от Ф. П. Литке отрицательные отзывы на свои прожекты и высказывавший недовольство «немецким засильем», не позволяли себе высказываний подобного рода в адрес представителей российской научной элиты.
Время славы наступило для «ревнителей Севера» в постсоветский период в связи с бурным развитием истории дореволюционного предпринимательства и купечества, а с середины нулевых – и новым арктическим бумом. При этом они по-прежнему не попадали в топ деятелей национального масштаба95, но в региональных научных изданиях, во многом благодаря сближению краеведения и академической науки, занимали самые видные места. В духе тренда «возвращение забытых имен» они стали героями целого ряда докладов на многочисленных региональных конференциях96. Как заметил А. Е. Гончаров, в это время «Россия искала свой путь в еще чуждом ей капиталистическом мире, а образ таких личностей, как М. К. Сидоров, позволял создать представление об удачном сочетании частного предпринимательства и патриотизма»97. В начале нулевых годов в составе сборников и коллективных монографий появились жизнеописания В. Н. Латкина и М. К. Сидорова98, они фигурировали как важные персонажи в исследованиях по истории купечества99, им были посвящены отдельные статьи в региональных энциклопедиях100 и научных журналах101. В основе этих публикаций лежали главным образом работы предшественников – труды самих «деятелей Севера» и сочинения их апологетов (Ф. Д. Студитского, П. М. Зенова, А. А. Жилинского, И. Л. Фрейдина). Богатый историографический материал пересобирался таким образом, чтобы акцентировать такие востребованные новым этапом развития страны стороны деятельности купцов XIX века, как предприимчивость, новаторство и благотворительность. Такой подход неизбежно вел к идеализации дореволюционного купечества, порождая многочисленные панегирики вроде такого: «Он [М. К. Сидоров] был представителем блестящей плеяды сибирских купцов XIX в. (Н. П. Аносов, И. И. Базанов, А. Г. Кузнецов, братья А. М. и И. М. Сибиряковы, И. Н. Трапезников и др.), сделавших главной целью своей жизни развитие хозяйства, культуры и науки Сибири, исследование и использование ее природных богатств»102. Крах предприятий В. Н. Латкина и М. К. Сидорова исследователи объясняли «косностью властей» и интригами «купцов-конкурентов, одержимых только жаждой наживы», противодействием «могущественных иностранных фирм, не заинтересованных в развитии русской морской торговли»103. Иначе говоря, без всякого намека на критический анализ исследователи просто воспроизводили аргументы самих В. Н. Латкина и М. К. Сидорова, попутно перенимая их риторику. Энтузиасты-краеведы приложили немало усилий для того, чтобы представить М. К. Сидорова в медийной сфере. В 2013 году на красноярском телеканале «Енисей» в цикле «Край без окраин» вышел фильм Оксаны Веселовой «Сумасшедший Сидоров»104. К 195-летию предпринимателя в 2018 году нарьян-марский краевед Юрий Канев снял по заказу Пустозерского музея фильм «Тот самый Сидоров»105.
Особо следует отметить выход в 2002 году историко-биографического исследования известного петербургского краеведа и переводчика И. А. Богданова «Петербургская фамилия: Латкины». На основе тщательного анализа впервые введенных в научный оборот архивных источников из фондов Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН (ИРЛИ РАН) и Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (СПбФ АРАН) И. А. Богданов реконструировал историю семьи В. Н. Латкина в широком культурном, социально-экономическом и политическом контексте эпохи. Благодаря И. А. Богданову почти сто лет спустя В. Н. Латкин наконец вышел из тени М. К. Сидорова, которому, к слову, в книге петербургского исследователя посвящалась отдельная глава. Другим важным достоинством работы И. А. Богданова было то, что в ней В. Н. Латкин и М. К. Сидоров впервые предстали не только «ратоборцами», но и обычными людьми в их повседневной жизни106. К 200-летнему юбилею В. Н. Латкина в Сыктывкаре вышел подготовленный местными краеведами «дайджест публикаций о В. Н. Латкине», включивший Печорский дневник В.Н Латкина 1840 и 1843 годов и многочисленные воспоминания о купце, извлеченные из мемуаристики и периодики XIX столетия107. Целый ряд серьезных научных исследований жизни и деятельности В. Н. Латкина был опубликован в начале 2010-х годов108. При этом ученых интересовали прежде всего предпринимательские и этнографические труды В. Н. Латкина. Следует обратить внимание и на то, что труды В. Н. Латкина и М. К. Сидорова изучают по отдельности, хотя и в предпринимательской, и в публичной сферах они выступали в тесном тандеме.

Юрий Канев в роли М. К. Сидорова в фильме «Тот самый Сидоров» (2018). Авторы сценария: О. Руссул, Л. Пермякова, Ю. Канев
На рубеже 2010–2020-х годов в русле «патриотического поворота» российской официальной исторической науки В. Н. Латкин и М. К. Сидоров вновь оказались востребованными как «стражи интересов Севера России». Именно в таком ключе чаще всего интерпретируется их деятельность современными исследователями109. М. К. Сидоров изображается «выдающимся представителем отечественного бизнеса»110, «предпринимателем нового типа, для деятельности которого характерны новаторский характер деятельности, умение пойти на экономические риски, ориентация на отложенный спрос, стремление отстоять свои права, стремление добиться от власти активных действий, ориентированных на развитие региона, упорность в достижении цели, даже путем сотрудничества с иностранными предпринимателями (sic! – М. А.), ориентация на всеобщий интерес»111. Схожим образом «ревнители Севера» оцениваются и в восприимчивой к арктической романтике современной зарубежной историографии, «великими северными меценатами» назвал их швейцарский исследователь Эрик Хесли112. Все тем же неутомимым общественным деятелем, щедрым инвестором, опередившим свое время, предстает М. К. Сидоров на страницах книги Андреаса Реннера113. Как видно, в характеристиках такого рода объединяются все отмечавшиеся ранее достоинства «деятелей по Северу» XIX века. На солнце пятен нет! Редкий случай обстоятельного критического анализа деятельности М. К. Сидорова в современной историографии представляют собой исследования российского историка А. Е. Гончарова и норвежского историка Йенса Петтера Нильсена114.
В 2023 году к 200-летнему юбилею М. К. Сидорова в г. Мезень Архангельской области прошли посвященные ему IV Межрегиональные научные «Поморские чтения»115, а в Новосибирске – Всероссийская научная конференция «Замечателен по многостороннему уму, предприимчивости, деятельности, неистощимой изобретательности»: предприниматель на русском фронтире (к 200-летию со дня рождения купца, благотворителя, «ревнителя Севера» Михаила Константиновича Сидорова)116. В декабре 2023 – феврале 2024 года в Санкт-Петербурге в общественном пространстве «Никольские ряды» прошла выставка Российского государственного музея Арктики и Антарктики «Таежный Наполеон. Михаил Константинович Сидоров. К 200-летию со дня рождения». Следует отметить, что в последние годы исследователи все чаще стали обращаться к документам центральных и региональных архивов, касающимся жизни и разнообразной деятельности В. Н. Латкина и М. К. Сидорова. В результате кропотливых изысканий уточнены детали их биографий, установлены новые факты117. Иначе говоря, этап освоения и переработки, если не сказать компиляции, трудов предшественников – от Ф. Д. Студитского до И. Л. Фрейдина – в целом можно считать, по-видимому, завершенным.
Настоящая работа не претендует на статус обобщающей биографии В. Н. Латкина и М. К. Сидорова. Нас интересует лишь один аспект их чрезвычайно разнообразной деятельности, а именно их вклад в присвоение северных рубежей российского имперского пространства как «русской национальной территории» и национализации поздней Российской империи. Таким образом, данное исследование находится на пересечении двух – на первый взгляд, не связанных друг с другом – историографических направлений: истории русского национализма и истории российского предпринимательства. Они пересекаются в той точке, которую условно можно обозначить как российский вариант «северной идеи»118.
В первой главе нашего исследования реконструируется идея севера и северности в истории Евразии и дается общий контекст истории дискурсивной национализации имперской северной периферии в XVII–XIX веках. В частности, анализируется организующая оптика властного взгляда на северные окраины Российской империи и рассматриваются основные факторы, формировавшие подходы петербургской администрации к управлению ею. В рамках камералистского проекта XVIII – первой половины XIX века северные пределы империи были описаны, закартографированы и инвентаризированы. В рамках русского националистического проекта консолидации нации внутри империи второй половины XIX – начала XX века прошлое и будущее северных окраин было переопределено так, что они стали своего рода эталоном «русскости».

П. И. Крузенштерн. Портрет (1834). Художник Т. А. Нефф (1805–1876)
Вторая глава посвящена феномену северного предпринимательского прожектерства в России второй половины XVIII – первой половины XIX века. В ней анализируется процесс образования неформального сообщества «ревнителей Севера» вокруг В. Н. Латкина и М. К. Сидорова. Особое внимание уделяется их усилиям по созданию совместно с П. И. Крузенштерном Печорско-Обской компании с целью продажи северной древесины за границу. Именно в процессе подготовки уставных документов компании, переписки с высокопоставленными чиновниками и потенциальными покровителями В. Н. Латкин и М. К. Сидоров постепенно вырабатывали язык репрезентации Севера России и интерпретации собственных деловых интересов как общегосударственных.
Деятельность Печорско-Обской компании подробно рассматривается в третьей главе. Этот сюжет является важным не только из-за того, что компания представляла собой довольно редкий случай попытки воплощения конкретного прожекта на практике, но и потому, что ее опыт оказал существенное влияние на развитие предлагаемой В. Н. Латкиным и М. К. Сидоровым стратегии «оживления» Севера России. Важнейшей частью последней был поиск путей сообщения между Европейским Севером России и Севером Сибири. Анализ логистических трудностей Печорско-Обской компании позволяет увидеть, как среди прочих транспортных прожектов возникла идея морского пути в Сибирь.
Открытие трансконтинентального пути в Сибирь для обеспечения выхода местных товаров на рынки Европейской России и зарубежных стран являлось важнейшей практической задачей «ревнителей Севера». М. К. Сидорова без всякого преувеличения можно считать человеком, который изобрел и воплотил в жизнь морской путь в Сибирь – тот самый, который позже стал называться Великим Северным морским путем. Предпринятые М. К. Сидоровым в этом направлении разнообразные мероприятия способствовали включению северной периферии Российской империи в глобальное Арктическое Средиземноморье, что вызвало тревогу имперского центра, опасавшегося ущерба государственному суверенитету. Уже в конце 1870-х годов российское правительство взяло курс на закрепление за собой северных окраин страны, в первую очередь посредством «национализации» морского пути в Сибирь. Этот сюжет рассматривается в четвертой главе.
Банкротство Печорско-Обской компании вызвало отклик в деловых и общественных кругах и дало импульс для широкой публичной дискуссии о Севере России. Ход дискуссии, позиции сторон, их аргументы и идеологические установки являются предметом всестороннего анализа, представленного в пятой главе. Несмотря на то что отправной точкой дискуссии были достаточно локальные, сугубо деловые вопросы, выдвинутая В. Н. Латкиным и М. К. Сидоровым программа освоения российской северной периферии предлагала гораздо более широкое видение проблем международного положения, внутренней политики и экономического развития страны. Центральным пунктом их программы был тезис о «заговоре» против Севера России. Ксенофобская риторика и критика правительственного курса сближали «ревнителей Севера» с активно формирующейся в 1860-х годах оппозицией либеральным реформам. Хотя В. Н. Латкин и М. К. Сидоров позиционировали себя как «практиков», для своих последователей они были прежде всего идеологами. Разработанный ими дискурс о Севере России оказался востребован в позднеимперский, советский и даже в постсоветский периоды сторонниками тяготеющей к автаркии модели развития страны.
Глава 1
Россия и ее северные страны
Стрелки компаса обозначают сочетания парных направлений – север и юг, восток и запад; этим бинарным оппозициям были приписаны культурные значения, основанные на выделяемых сходствах и различиях, а также на представлениях о верховенстве и иерархии.
Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. И. Федюкина. М., 2003. С. 517Север – «страна без границ» – вплоть до начала прошлого века сам был границей или, точнее, если вспомнить исходное значение этого слова, гранью евразийской ойкумены, за которой простирался трудно или совершенно недоступный и потому неизвестный человеку более низких широт мир. Согласно утвердившейся еще во времена Эратосфена (II–I века до н. э.) зональной (климатической) теории, на полюсах и в экваториальных областях жизнь считалась невозможной: в первом случае из-за холода, во втором – из-за жары. Северную часть света по сияющим над ней семи звездам ковша Большой Медведицы древние римляне называли находящейся под «семизвездием» – septentriones (Caes. B. G. I, 1, 2, 5–7, 16; Тас. Agr. 10). В древнеримской поэзии Большая Медведица была метонимией (Ovid. Pont. I, 5, 73–74). К ней, как и к обозначаемой ею части света, часто добавлялся греческий эпитет «гиперборейская» – hyperboreos (Verg. G. III. 380–381; Mart. Epigr. IX, 45, 1; Luc. Phars. V, 23–24) / Ὑπερβορείος, то есть находящаяся «за Бореем», «за северным ветром». В средневековой географии континенты, предположительно расположенные в Южной и Северной полярных зонах, получили соответственно названия Terra Australis и Terra Septentrionalis119. Греческое название созвездия Большой Медведицы – Μεγάλη Άρκτος – дало Северному полярному региону название Арктика. В арабской географии, насчитывавшей семь параллельных экватору горизонтальных полос или зон, называемых климатами (иклим)120, Северная полярная зона располагалась «за седьмым климатом»121. По вопросу о физическом устройстве Северной полярной зоны существовало две точки зрения, каждая из которых опиралась на соответствующую теорию.
Сторонники континентальной теории, считавшие, что большую часть земного пространства занимает суша, предполагали существование полярного материка, которому отводилась ключевая роль в обеспечении природно-климатических условий всего мира. По мнению Аристотеля, там, «под самой Медведицей, за крайней Скифией» находились легендарные, небывалой величины «Ринейские горы… оттуда стекает больше всего рек» (Arist. Meteo. I 13, 350 b 1–10). Горы рассматривались античными философами как выдвинутые высоко в атмосферу своего рода впитывающие влагу гигантские губки, из которых во все стороны источается вода. Не менее важную роль Великая гора в северной части земли играла в «Христианской топографии» византийского купца Козьмы Индикоплова (VI век). В его модели плоскостно-комарного мироустройства солнце двигалось по горизонтальному (над Землей) кругу и ежесуточно скрывалось за Великой горой, тень которой, пока солнце пряталось за горой, предлагалось воспринимать как ночное время122.
Образ Великой горы далеко не исчерпывался ее природно-климатическими и астрономическими функциями. Прежде всего, Великая гора выражала идею центра мира – мировой оси123. Она указывала то место в пространстве, где совершился акт творения, где постоянно находится и возобновляется архе124. Увенчивающая север земли Великая гора являлась важнейшим элементом средневековой мифопоэзии. В эпоху Высокого Средневековья взгляды на устройство мира, выводившиеся из буквалистской экзегезы, были вытеснены рациональными космологическими концепциями125. Великая гора на далеком севере сохранилась только в мистических видениях, например Хильдегарды Бигенской126. Позже к образу Великой горы обращались К. Г. Юнг, Р. Генон, Д. Андреев и другие «великие посвященные», отождествляя ее с известной из западноевропейского рыцарского эпоса «Горой Спасения» Монсальват, на вершине которой находился Замок святого Грааля. С введением в практику мореплавания компаса Великая гора была переосмыслена как полярная магнитная гора, обладающая исключительным свойством заставлять стрелку компаса указывать на север127.
Приверженцы океанической теории полагали, что большую часть земного пространства занимают воды Мирового океана – величайшей в мире реки, – который, по Геродоту, «течет, начиная от восхода солнца, вокруг всей земли» (Hdt. IV, 8). Протекая через экваториальный пояс, океан разливается по двум огромной величины рукавам, простирающимся от востока и запада к арктической и антарктической областям. На карте Амвросия Феодосия Макробия, согласно принципам космической симметрии и баланса, выделялось шесть земель и четыре окаймляющих их океанических течения, доходящих до полюсов. В поздней Античности «Океаном» стало называться только экваториальное море, моря вокруг полюсов именовались «Амфикритами». В эпоху Высокого Средневековья благодаря Гервасию Тильберийскому утвердилось мнение, что у Северного полюса вода под действием холодов замерзает, а у Южного под влиянием жары затвердевает, превращаясь в соль128. Позже за северным океаном закрепилось название Mare Pigrum (Ленивое, или Темное, море), плавание по которому считалось невозможным из-за сгущения вод, отсутствия ветров и абсолютной темноты. В отличие от европейских авторов арабские допускали, что высокие северные зоны могли быть обитаемыми. Живущим там народам приписывались обусловленные их отдаленностью от Солнца качества: слишком красный или белый цвет лица и тела, грубость, агрессивность129.

