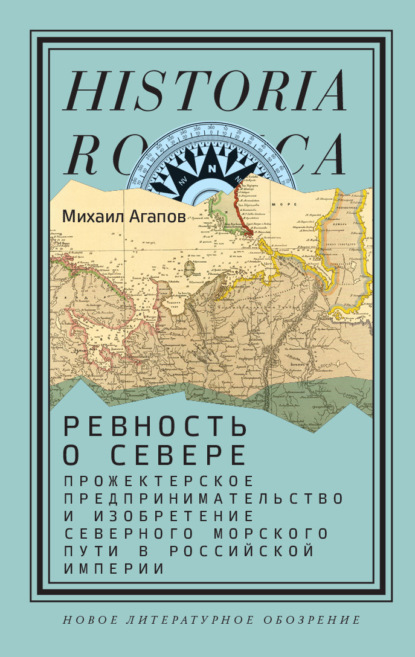
Полная версия:
Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи

Михаил Агапов
Ревность о Севере.
Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи
© М. Агапов, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
В оформлении обложки использован фрагмент карты Северного Ледовитого океана в границах Российской империи, составленной в 1874 году на основании русских географических исследований с 1734 по 1871 год. Библиотека Конгресса США.
Редакционная коллегия серии HISTORIA ROSSICA С. Абашин, Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Слёзкин, Р. Уортман Редактор серии И. Мартынюк Научный редактор А. Гончаров
Моим друзьям и коллегам по Лаборатории исторической географии и регионалистики Тюменского государственного университета
Север? Какой искатель отправлялся на север? То, что положено искать, располагается на юге – смуглые аборигены, так? За опасностями и промыслом посылают на запад, за видениями – на восток. А на севере-то что?
Пинчон Т. Радуга тяготения / Пер. с англ. А. Грызуновой, М. Немцова. М.: Эксмо, 2012. С. 831Благодарности
Идея этой книги возникла в процессе моей работы в нескольких научно-исследовательских проектах. В 2017–2019 годах мне посчастливилось принять участие в выполнении госзадания Минобрнауки РФ № 33.2257.2017/ПЧ на тему «Российские гавани Трансарктической магистрали: пространства и общества арктического побережья России накануне новой эпохи развития Северного морского пути». Это был совместный проект Лаборатории исторической географии и регионалистики Тюменского государственного университета (ТюмГУ), где я тогда работал, и Центра социальных исследований Севера Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб), где я занимался изучением социальной антропологии. Проект представлял собой комплексное историко-географическое и социально-антропологическое исследование прошлого, современного состояния и перспектив развития «опорных точек» Северного морского пути. Тема так захватила меня, что я поработал во всех исследовательских группах. Как профессиональный историк, я, конечно, начал с погружения в библиотеки и архивы. Сначала моя жизнь была полностью подчинена расписанию работы читальных залов Российской национальной библиотеки, Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива Военно-морского флота и Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, где я изучил множество интереснейших документов и озадачился рядом полезных, как мне думается, вопросов. Затем вместе с группой социальных антропологов из Центра социальных исследований Севера ЕУСПб – Ксенией Андреевной Гавриловой, Валерией Владиславовной Васильевой и Еленой Владимировной Лярской – я отправился в путешествие по «опорным точкам» Северного морского пути от Архангельска до Салехарда. Расписание наших передвижений сильно отличалось от расписания работы читальных залов. Режим планирования в экспедиции имеет мало общего с размеренной работой в библиотеках и архивах, зато полевая работа дает возможность посмотреть на собранный по письменным источникам материал под иным углом зрения и – что немаловажно – получить личный опыт проживания пространства и общения с местными жителями, сопоставимый – пусть и весьма условно – с опытом героев моего исследования. Надеюсь, что мое участие в экспедиции было небесполезным для команды социальных антропологов, и, пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность коллегам-антропологам за возможность разделить с ними экспедиционные радости и трудности и обогатиться их знаниями и совершенно особым видением социальной реальности. Не менее полезным для моего исследования оказалось и участие, вместе с научным сотрудником геофака МГУ Надеждой Юрьевной Замятиной и научным сотрудником Лаборатории исторической географии и регионалистики ТюмГУ Федором Сергеевичем Корандеем, в историко-географической экспедиции в Дудинку и Норильск. Для меня это была прекрасная возможность открыть еще одну перспективу восприятия исследуемой проблемы, за что я глубоко благодарен коллегам-географам в надежде, что и мне удалось внести свою лепту в работу группы.
В ходе проводившихся в рамках общего проекта семинаров, коллоквиумов и круглых столов мне повезло познакомиться и обсудить некоторые промежуточные выводы моего исследования с известными специалистами по истории российской Арктики: научным сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Санкт-Петербург) Маргаритой Александровной Емелиной, научным сотрудником Центра арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург) Павлом Анатольевичем Филиным и доцентом Балтийского государственного технического университета «Военмех» (Санкт-Петербург) Михаилом Авинировичем Савиновым, за что я всем им чрезвычайно благодарен. Особенно ценными и вдохновляющими для меня были суждения о моих исследованиях научного руководителя проекта «Российские гавани Трансарктической магистрали: пространства и общества арктического побережья России накануне новой эпохи развития Северного морского пути», члена-корреспондента РАН, руководителя Центра социальных исследований Севера ЕУСПб Николая Борисовича Вахтина, с которым осенью 2022 года раньше других я поделился мыслью о написании этой книги.
На формирование фокуса и концептуальной рамки исследования решающее влияние оказал опыт работы с коллегами из журнала «Ab Imperio: Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве» и Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в совместном с Лабораторией исторической географии и регионалистики ТюмГУ проекте «Переосмысливая историю модернизации в имперской России и СССР: парадигмы освоения и развития как практика и языки социального и политического воображения» в 2021–2022 годах. Не могу не выразить искреннюю благодарность за сколь суровую, столь и полезную критику, советы и рекомендации Илье Владимировичу Герасимову, Марине Борисовне Могильнер, Сергею Владимировичу Глебову, Александру Михайловичу Семенову и Александру Дмитриевичу Турбину. Во второй половине 2022 – начале 2023 года мне выпала удача пройти стажировку в Центре исторических исследований факультета Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по программе проектов «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ, в котором участвовала Лаборатория исторической географии и регионалистики ТюмГУ. Благодаря этой стажировке я продолжил работу в библиотеках и архивах Санкт-Петербурга и Москвы, а также выступил с докладами по теме своего исследования на ряде конференций и семинаров, среди которых наиболее важными для меня были выступление на семинаре факультета истории ЕУСПб, доклад в Центре исследований модернизации ЕУСПб и сообщение в Центре исторических исследований факультета Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Каждый раз я получал от коллег содержательные отзывы, конструктивные советы и продуктивные консультации, за что я безмерно признателен Амирану Тариеловичу Урушадзе, Дмитрию Яковлевичу Травину, Владимиру Яковлевичу Гельману, Павлу Валерьевичу Усанову, Татьяне Юрьевне Борисовой, Николаю Владимировичу Ссорину-Чайкову и Марине Викторовне Лоскутовой. Во время стажировки в Центре исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург мне довелось поучаствовать в обсуждениях близких по тематике моему предметному полю кандидатской диссертации Евгения Витальевича Егорова и выпускной квалификационной работы Ивана Денисовича Бурмистрова, чьи идеи оказали самое благотворное влияние на мои собственные размышления.
Очевидно, что более всего я надоедал рассказами о своей работе над этой книгой своим ближайшим коллегам из Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН и Лаборатории исторической географии и регионалистики ТюмГУ. Особую благодарность я выражаю заведующему названной лабораторией Сергею Александровичу Козлову – человеку, обладающему редким даром в равной степени мастерски владеть искусством администрирования и научного исследования. Во многом благодаря содействию Сергея Александровича мне удалось с максимальной эффективностью организовать работу над книгой. Коллеги Николай Игоревич Стась и Федор Сергеевич Корандей никогда не отказывались познакомиться с моими текстами и всегда делились проницательными комментариями по поводу прочитанного, за что я им глубоко благодарен. Выжить в забюрократизированном академическом мире, а тем более написать книгу очень сложно без «волшебных помощников», какими для меня были лаборанты и молодые ученые Юлия Романовна Дягилева и Александр Вадимович Казаков.
На завершающем этапе работы неоценимым подспорьем для меня были критические замечания, полезные рекомендации и щедрые советы научного редактора этой книги – ведущего специалиста по истории Северного морского пути второй половины XIX – начала XX века – кандидата исторических наук, доцента Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва (Красноярск), путешественника и искателя затонувших в Арктике кораблей Александра Евгеньевича Гончарова. Я глубоко благодарен Александру Евгеньевичу за его высокий профессионализм и внимательное отношение к моей рукописи. Поскольку наши подходы к предмету исследования не во всем совпадают, уже в процессе обсуждения рукописи обмен мнениями в ряде случаев вылился в плодотворные дискуссии, которые, хочется надеяться, продолжатся, а с участием всех заинтересованных исследователей и читателей и приумножатся после выхода этой книги. Самые теплые слова благодарности за их труд и поддержку хочется высказать всем сотрудникам издательства «Новое литературное обозрение», и в первую очередь – редактору серии «Historia Rossica» Игорю Семеновичу Мартынюку. При этом, разумеется, всю ответственность за содержание этой книги несет только ее автор.
Особую признательность выражаю моей жене Юлии. Когда твой самый близкий человек не только любит тебя, но и понимает смысл твоей работы – это бесценно.
Сокращения
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи
БТК – Беломорская торговая компания
ВНИОРХ – Всесоюзный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства
ВНИРО – Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
ГААО – Государственный архив Архангельской области
ГОЛ – Геологическое общество Лондона (Geological Society of London)
ИВЭО – Императорское вольное экономическое общество
КГО – Королевское географическое общество (Royal Geographical Society)
НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
ОДСРПиТ – Общество для содействия русской промышленности и торговле
ОДСРТМ – Общество для содействия русскому торговому мореходству, с 1898 года – ИОДСРТМ, Императорское общество для содействия русскому торговому мореходству
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
РАК – Российская Американская компания
РГА ВМФ – Российский государственный архив военно-морского флота
РГИА – Российский государственный исторический архив
РГО – Русское географическое общество, с 1850 по 1917 год – ИРГО, Императорское русское географическое общество
РОПиТ – Русское общество пароходства и торговли
РТО – Русское техническое общество
СПбФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
УВМС РККА – Управление Военно-морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии
Введение: «Ревнители Севера» глазами современников и потомков
IНа протяжении большей части имперского периода российской истории обширные северные владения страны воспринимались ее правящей элитой как бесполезные окраинные территории, реликты Московского царства и Сибирского ханства, лежащие вне стратегических направлений российской политики и потому обреченные, по словам А. А. Кизеветтера, «на положение… заштатного, захолустного существования». В эпоху Великих реформ на фоне стремительно модернизирующейся «внутренней» России «заброшенность этого [Северного] края», исключенного из национальных промышленных и инфраструктурных проектов, «стала сказываться… еще резче»1. В то же время Север России занимал особое место в рамках русского националистического проекта консолидации нации внутри империи, предполагавшего переосмысление и «присвоение» различных частей имперского пространства как «русской национальной территории»2. Важной частью данного проекта была идеология «русского северянства», определяемая философом А. А. Кара-Мурзой как восходящая к М. В. Ломоносову и Г. Р. Державину литературно-философская традиция идентификации России как «Севера»3. Постепенно, к рубежу XIX–XX веков под влиянием славянофильской версии русского мессианизма Север Европейской России был переосмыслен так, что стал восприниматься более русским, чем сама «коренная» Россия4. Существенный вклад в этот процесс внесли «имперские посредники» (термин Дж. Бурбанк и Ф. Купера5) – региональные администраторы, общественные деятели и предприниматели, обладавшие локальным экспертным знанием и предлагавшие альтернативные модели воображения социально-политического пространства страны. Именно местные акторы часто выступали инициаторами экономических преобразований, или, как они говорили, «оживления» своего края, что подразумевало, помимо прочего, риторическое переопределение последнего как органической части «национального тела». Казалось бы, бизнес-планирование не имеет ничего общего с изобретательством (в том смысле, который этому термину придал Л. Вульф6), представленным философами, естествоиспытателями, дипломатами, путешественниками и литераторами, однако исследования А. В. Крайковского, М. М. Дадыкиной и Ю. А. Лайус показали, что это далеко не так. И в первую очередь это касается Севера России.
Изучая проекты модернизации русских северных промыслов второй половины XVIII века, названные ученые обратили внимание на то, что все проекты можно разделить на две группы. К первой группе исследователи отнесли «кондиции» – списки условий, на которых предприниматель соглашался принять участие в предлагаемом ему властями проекте создания компании. Тексты кондиций были невелики по объему, они составлялись сухим деловым языком и имели ярко выраженную практическую направленность. Вторая группа проектов, которую исследователи обозначили как «прожекты», представлена документами иного рода. Это коммерческие предложения частных лиц, старавшихся изо всех сил продемонстрировать правительству выгоды от реализации предлагаемой идеи и убедить его оказать предприятию поддержку предоставлением субсидий и льгот. Целью всех прожектов было получение государственного покровительства7. Для этого использовались различные риторические приемы, включая пространные отсылки к истории и экскурсы в современные научные труды. Отчеты академических экспедиций давали прожектерам аргументы о бесчисленных «естественных» богатствах Севера России, для извлечения которых требовалось, как утверждалось, лишь протянуть руку. А. В. Крайковский, М. М. Дадыкина и Ю. А. Лайус подчеркивают, что авторы северных прожектов были убеждены, что «Россию „снабдил Бог“ такими природными богатствами, которых другие европейские страны не имеют, и она поэтому в состоянии всем необходимым сама „довольствоваться и наслаждаться своим изобилием“, практически ничего не „заимствуя“ из других стран. Поэтому „провидение вразумляет“ покровительствовать развитию коммерции, под которой автор подразумевал не только торговлю, но также и производство товаров, систему кредита, развитие транспортной инфраструктуры»8. Иначе говоря, прожекты представляли собой целые политико-экономические трактаты, переописывающие северное имперское «захолустье» как важнейший ресурсный регион. В основе всех прожектов лежала та мотивация, которую Дж. Мокир называет откровенно рентоискательской9. Под рентой при этом понимается такая «отдача от экономического актива, превышающая отдачу, которая может быть получена от лучшего альтернативного использования этого актива», достижение которой обеспечивается не через инновации, но благодаря получению от государства привилегий и особых прав10.
Эта книга посвящена небольшой группе людей (насчитывавшей едва ли десяток человек), которых современники называли «ревнителями Севера». Ее образовали авторы амбициозных прожектов (здесь и далее мы используем это слово без всякого уничижительного смысла, но только в том значении, каким его наделили А. В. Крайковский, М. М. Дадыкина и Ю. А. Лайус), нацеленных на промысловое освоение Севера России в рамках частно-государственного партнерства. Точнее говоря, они стремились к извлечению ренты посредством создания покровительствуемой правительством, защищенной от конкуренции и обеспеченной бюджетными субсидиями компании. Деятельность «ревнителей Севера» пришлась на 1840–1870-е годы, пройдя сквозь несколько важнейших этапов российской позднеимперской истории. Они действовали именно в тот период, про который М. Могильнер справедливо заметила, что он «принципиально не описывается каким-то одним доминантным нарративом: ни традиционалистским, ни модернизационным, ни „полумодернизационным“, ни национализирующим, ни революционным»11. То же самое относится и к самим нашим персонажам – перечень контекстов их деятельности и социальных ролей был чрезвычайно широк. Наиболее яркие представители группы и главные герои нашего повествования – В. Н. Латкин (1810–1867) и М. К. Сидоров (1823–1887) – проявили себя в качестве предпринимателей, золотопромышленников, путешественников, публицистов, меценатов, устроителей выставок и пр. Это были люди особого типа. Их отличительной характеристикой был тот неподдельный энтузиазм, с которым они пропагандировали свои прожекты и то упорство, с которым они пытались их реализовывать. Эти люди буквально «болели» Севером, точно так же как другие заражались «золотой лихорадкой», железнодорожным строительством или азартом биржевых спекуляций12. Их, как жюль-верновского капитана Джона Гаттераса, неудержимо влекло на север13. Данное им прозвище – «ревнители Севера» – не являлось, как может сейчас показаться, ироничным. Библейский словарь Брокгауза в статье «Ревность» сообщает: «Р<евность> человека – это проявление страстей, чаще всего греховных (Песн 8: 6). Но Библии известны и самоотверженная Р<евность>, и Р<евность> (усердие) в добрых делах (Гал 4: 18)»14. Именно в последнем значении слово «ревность» и его производные использовались в рассматриваемом случае. «Во всех делах такого человека виден особливый дух ревности, который, так сказать, оживляет их и отличает от дел людей обыкновенных»15. Эти слова Н. М. Карамзина полностью применимы к нашим персонажам. «Мир твоему праху, неустанный ревнитель Севера», – написал в некрологе М. К. Сидорова в июле 1887 года главный редактор журнала «Русское судоходство» М. Ф. Мец16. «Известным ревнителем Севера» называл М. К. Сидорова советский исследователь Арктики В. Ю. Визе17. «Северными „ревнителями“» именовал М. К. Сидорова и его последователей сибирский журналист и писатель А. К. Омельчук18. Наконец, М. К. Сидоров и его ближайшие сторонники и сами характеризовали свою деятельность как «ревность»19, а самих себя как «защитников Севера»20. Не скупившиеся на эпитеты современники называли их также «ходатаями за Север»21, «деятелями по Северу»22, «неутомимыми поборниками Севера»23, «ратоборцами за Север»24, «стражами интересов Севера России»25, «северянами»26 или даже «северными умами»27.
Все прожекты «ревнителей Севера», направленные на промысловое освоение северных «окраин» страны, получили импульс от Печорских экспедиций В. Н. Латкина 1840 и 1843 годов. В 1858 году В. Н. Латкин вложил все свое добытое на сибирских золотых приисках состояние в созданную им вместе с П. И. Крузенштерном Печорско-Обскую компанию «для торговли лесом за границу». В 1864 году М. К. Сидоров, также преуспевший в золотодобыче и ставший к этому времени зятем В. Н. Латкина, выкупил оказавшуюся на краю банкротства Печорско-Обскую компанию, но не смог ее спасти. В 1869 году М. К. Сидоров добился Высочайше утвержденной привилегии на организацию экспедиций для открытия пути через Ледовитый океан в устья Оби и Енисея и на образование торгово-промышленной компании после того, как в устье одной из упомянутых рек придет первое судно. Предоставленная М. К. Сидорову Высочайшим рескриптом зона деятельности простиралась «от Карских ворот до устьев Енисея включительно и в Карском море». Однако первые зафрахтованные корабли достигли устьев сибирских рек, когда срок действия привилегии уже истек. В последние годы жизни М. К. Сидоров безуспешно пытался создать частно-государственную промысловую Северную компанию. Она проектировалась им по лекалам Беломорской торговой компании и Российской Американской компании. Целью «Северной компании» была колонизация «подполюсной страны» (выражение М. К. Сидорова28). Надо сказать, что «ревнители Севера» никогда не стеснялись слова «колонизация», наоборот – они сами, их сторонники и их последователи вплоть до раннесоветского периода включительно поднимали его на щит29. Не будем забывать, что в духе «прогрессивного» XIX века колонизация воспринималась как исключительно положительное и даже героическое явление. Освоение колонистами «бесхозных» земель расценивалось как их бесценный вклад в дело строительства модерных наций и в прогресс для всего человечества30. На практике колонизация во многом была игрой воображений, конструированием культурных различий, производством социальных иерархий и дистанций, в пределе – прямым физическим насилием31. Иначе говоря, «всегда озабоченная территорией, колонизация делалась людьми и над людьми»32. В отличие от современных авторов, пытающихся представить русский опыт колонизации Белого поморья и Сибири как комплементарный интересам их индигенного населения33, русские первопроходцы со времен Московского царства и до времен покорения Маньчжурии никогда не скрывали, что отправлялись за тридевять земель «ради наживы и царя»34. При этом «замирение» коренных жителей Крайнего Севера, их «перевоспитание», а в некоторых случаях и русификация были важнейшими задачами в деле колонизации российской арктической периферии. Зарубежный колониальный опыт ни только не отвергался, но, напротив, служил ориентиром. Так, «ревнители Севера» неоднократно призывали брать пример с «английской Ост-Индской компании», впрочем, как заявляли они, исключительно для того, чтобы бороться с иностранными колонизаторами Севера России их же оружием.
Пережив своего наставника, компаньона и тестя на двадцать лет, М. К. Сидоров скончался, как и В. Н. Латкин, банкротом, обремененным долгами и судебными тяжбами. Сторонники В. Н. Латкина и М. К. Сидорова часто описывали их как героев-первопроходцев, совершенно лишенных «эгоистических мотивов»35. Такая героизация, несомненно, неординарных личностей во многом упрощает их образы. В действительности они, как многие яркие персоны, были сотканы из противоречий. Конечно, они были мечтателями, одаренными безграничным воображением. Большинством современников они воспринимались как чудаки на грани безумия. Но они не были безумными, они были дерзновенными, как говорил Санчо Панса о своем господине. Впрочем, не верно было бы видеть в них и Дон Кихотов. Все их действия строились на коммерческих расчетах, они ясно осознавали свою выгоду и до самого конца надеялись на успех. В этом отношении они были типичными представителями того коммерческого активизма, обратить внимание на который призывает Эрика Монахан36. Необходимо лишь добавить, что не менее активно и, пожалуй, более успешно В. Н. Латкин и М. К. Сидоров действовали на общественном поприще.
Они активно использовали зародившуюся уже в первой половине XIX века и достигшую расцвета во второй – в эпоху Великих реформ – публичную сферу37. Выведенные из ведомственных кулуаров на арену общественных ристалищ, прожекты «ревнителей Севера» неизбежно приобретали признаки политических манифестов, а сами «ревнители» – черты общественных деятелей. В 1860-х годах В. Н. Латкин и М. К. Сидоров бросили все силы на то, чтобы заинтересовать своими прожектами высшую имперскую бюрократию, деловые круги и общественность, найти сторонников, сформировать вокруг себя солидарную сеть. Поскольку речь шла о мобилизации представителей различных общественных слоев, общим знаменателем служили «русские интересы». На практике это выражалось в переводе содержания прожектов с делового языка на национальный, который в рассматриваемый период только формировался во всем своем многообразии, со всеми присущими ему противоречиями, в том числе как продукт пропагандистских кампаний, подобных тем, которые вели В. Н. Латкин и М. К. Сидоров. Выражаясь языком глобальной истории, «ревнители Севера» пытались решить вопрос о режиме территориальности, то есть об отношениях между нацией и государством, населением и инфраструктурой, территорией и глобальным порядком38. Путем проб и ошибок они изобретали национализирующие критерии различения своих сторонников и противников; риторические способы консолидации первых и дискредитации вторых; аргументы в пользу всесторонней поддержки своих прожектов. Таким образом «ревнители Севера» вырабатывали новый политический язык как набор определенных идиом, риторик, грамматик и категорий39. Как всякий политический язык, он развивался в дискуссиях о политическом: истории, политической экономии, международных отношениях и праве40. И, как всякий политический язык, являлся инструментом рационализации и конструирования реальности.

