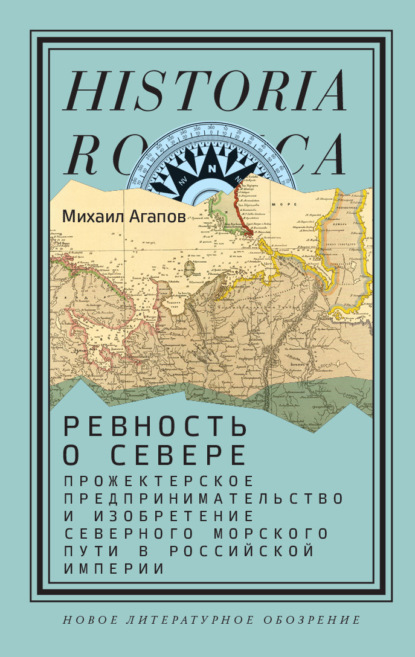
Полная версия:
Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи
Представить нечто как национальное означало отделить его от политического, экономического, сословного и т. д., что в условиях тесного переплетения политического и географического воображения с частными коммерческими интересами, проблемами подданства и групповой солидарности было крайне сложной задачей. Ключевой вопрос нашего исследования состоит в выяснении того, как эта задача решалась «ревнителями Севера» в рамках их предпринимательской деятельности и сопровождавшей ее развернутой ими же общественно-политической кампании за промышленное освоение имперской северной периферии в 1840–1870-х. Ответ на этот вопрос требует комплексного подхода. Занимаясь продвижением и реализацией своих прожектов в эпоху трансформации европейского общества, В. Н. Латкин и М. К. Сидоров стремительно перемещались в географическом и социальном пространствах, попадая то на аудиенцию к цесаревичу, то на Всемирную выставку в Лондоне, то под суд, то на собрание ИВЭО, то на мели в устьях Печоры, Оби или Енисея. Всякий раз им приходилось адаптироваться к новым контекстам и ситуациям, приписывая себя в зависимости от обстоятельств к разным группам, – так, например, М. К. Сидоров неоднократно по своему выбору вступал в купеческое сословие и покидал его, – выстраивая таким образом из множества граней свои социальные персоны. Поэтому для изучения жизни и трудов «ревнителей Севера» мы выбираем интерсекциональную оптику и инструментарий аналитического конструктивизма, что дает нам возможность исследовать их деятельность в контексте позднеимперского несистемного многообразия41 как сложных субъектов, несводимых к какой-либо одной из их социальных ролей – предпринимателей, путешественников или публицистов.
Именно в конструктивистском ключе мы говорим и об изобретении «ревнителями Севера» Северного морского пути. Одно из важнейших современных исследований по истории его открытия и освоения называется «From Northeast Passage to Northern Sea Route»42 – от Северо-Восточного прохода к Северному морскому пути. Для того чтобы этот переход – от некоей географической данности к «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникации России в Арктике»43 – осуществился, потребовались не только корабли, полярные станции, новые порты, базы снабжения и так дальше, но и воображение. В первую очередь воображение! В этой сфере, не менее конкурентной, чем сферы торговли или политики44, «ревнители Севера» добились впечатляющих успехов. Преследуя свои собственные деловые интересы, они постепенно сформулировали идею Северного морского пути, сделали ее – тогда еще не реализованную практически – частью национального воображения, нанесли на карту Севера России казавшийся в то время едва ли возможным маршрут. Сегодня российские средства массовой информации, даже не подозревая о том, говорят о Северном морском пути языком В. Н. Латкина и М. К. Сидорова. Мы постараемся показать, как этот язык возник, выяснить, на каких предпосылках и из каких элементов сложился образ Северного морского пути, выявить связь географического воображения с вопросами экономического развития страны и актуальной общественно-политической повесткой второй половины XIX века.
IIМне представлялось невозможным и противным всякому доброму обычаю, чтобы для такого отличного рыцаря не достало какого-нибудь мудреца, который бы взял на себя труд описать подвиги его, никогда еще не виданные.
Мигель Сервантес Сааведра. Дон Кихот Ламанчский. Том первый / Пер. с исп. К. Масальского. СПб., 1838. С. 84
В. Н. Латкин и М. К. Сидоров относятся к числу тех людей, про которых с полным основанием можно сказать, что они сделали себя сами (впрочем, следует добавить – и сами себя погубили, то есть разорили). Оба происходили из купеческой среды, но принадлежали к самому низшему ее слою, постоянно балансировавшему между достатком и бедностью. Ни один из них не получил от родителей сколь бы то ни было значимых средств, необходимых для продолжения семейного или начала собственного дела. Оба были самоучками и неутомимыми тружениками. Коротко говоря, и В. Н. Латкин, и М. К. Сидоров сколотили свои состояния самостоятельно, практически с нуля, благодаря своим талантам, упорству, а иногда и не всегда законной предпринимательской хитрости45. В 1860-х годах ступив ради продвижения своих прожектов на стезю общественной деятельности, они проявили себя в качестве изобретательных пиарщиков. В. Н. Латкин и М. К. Сидоров использовали все доступные им общественные институты – от печати до разнообразных предпринимательских и научных объединений, – чтобы донести свои идеи по «оживлению» Севера России до широкой публики. Современники отмечали их небывалую страстность: «Первая и последняя мысль всей его жизни было – осуществить надежды и желания печорского населения [по возрождению местных промыслов]», – писал в некрологе В. Н. Латкина в 1867 году почетный член ИВЭО С. С. Лашкарев46. В. Н. Латкин и в еще большей мере М. К. Сидоров прославились также и как меценаты. В частности, М. К. Сидоров жертвовал солидные суммы на призрение сирот и народное образование, в том числе на Сибирский университет, что выделяло «ревнителей Севера» из основной массы российского купечества того времени, предпочитавшего жертвовать на строительство храмов, и способствовало – совершенно заслуженно – формированию имиджа В. Н. Латкина и М. К. Сидорова как современных, прогрессивных предпринимателей. Таким образом В. Н. Латкин и М. К. Сидоров приобретали репутацию, связи и даже некоторые средства для воплощения своих идей.
Важно заметить, что, рассказывая о своих северных прожектах, о своих успехах (которых было не так много) и о своих неудачах (которые преследовали их на каждом шагу), В. Н. Латкин и М. К. Сидоров рассказывали о себе. Другими словами, их биографии – приукрашенные, романтизированные, в некоторых отношениях сознательно пересобранные заново – были значимой частью их пиар-кампании. Упрекать их за это ни в коем случае нельзя – так поступали и поступают все предприниматели, особенно такие, как В. Н. Латкин и М. К. Сидоров, self-made men and self-promoters, поскольку их биографии являются ценным символическим ресурсом для их деятельности. Проблема заключается в том, что со временем парадные биографии В. Н. Латкина и М. К. Сидорова, рассказанные ими самими, стали главным источником для их первых биографов (что неудивительно, так как те были страстными апологетами «ревнителей Севера»), а труды первых биографов – главным источником для последующих поколений историков (что уже настораживает, особенно когда видишь в научных публикациях некритично воспроизводящийся из десятилетие в десятилетие, мягко говоря, не лишенный лукавства сидоровский нарратив о самом себе). М. К. Сидоров был главным мифотворцем истории «ревнителей Севера». В 1882 году он издал в Санкт-Петербурге «Труды для ознакомления с Севером России М. Сидорова», в предисловии к которым написал: «Рассмотрев свою деятельность, я с прискорбием должен сказать, что в течение 20 лет не встречал себе содействия; администрация мне противодействовала, хотя я и не просил ни привилегий, ни пособий. Но чем сильнее было ее противодействие, тем настойчивее старался я достигнуть своей цели и не останавливался ни перед какими пожертвованиями»47. Уже в этих первых словах М. К. Сидоров исказил очевидные факты. Как будет показано ниже на основе архивных и опубликованных источников, он постоянно выпрашивал себе у правительства привилегии и пособия. Единственное, что не вызывает сомнения в приведенной цитате, – это свидетельство М. К. Сидорова о его упорстве и безграничном расходовании личных средств (обернувшемся неподъемными долгами) в деле реализации его северных прожектов. Вместе с тем для биографов М. К. Сидорова трехсотстраничный том его «Трудов для ознакомления с Севером России» оказался настоящим кладезем. Это было своего рода портфолио М. К. Сидорова как предпринимателя, исследователя Севера России и мецената. В него вошли подробные отчеты об участии М. К. Сидорова в российских и международных экономических и научных выставках; были названы все (19 «русских» и 6 «иностранных») «ученые и благотворительные общества, удостоившие меня [М. К. Сидорова] принятием в свои члены и наградами»; перечислены все пожертвования М. К. Сидорова на научные исследования, географо-геологические изыскания; а также собраны все хвалебные высказывания известных государственных и общественных деятелей, российских и зарубежных ученых и путешественников о М. К. Сидорове.

Газета «Содействие русской торговле и промышленности», 1868 год
В 1883 году ближайший сотрудник М. К. Сидорова на поприще изучения Севера России и пропаганды его промышленного освоения, известный педагог, автор популярных учебников по географии России, сотрудник газеты «Содействие русской торговле и промышленности» и делопроизводитель Санкт-Петербургского отделения ОДСРТМ Ф. Д. Студитский издал двухтомный труд «История открытия морского пути из Европы в сибирские реки и до Берингова пролива», в первом томе которого представил «подробное описание трудов [М. К. Сидорова] и других лиц по открытию прямого морского пути в устья сибирских рек», а во втором – материалы «со всеми документами и со всей перепиской по этому делу»48. Вплоть до сегодняшнего дня ни одна серьезная статья или монография по истории Северного морского пути не обходится без ссылки на эту работу. Важно заметить, что стимулом к ее написанию послужили открытие в 1874–1875 годах морского пути в Сибирь Дж. Виггинсом и А. Э. Норденшельдом и первый в истории успешный проход вдоль северного побережья Европы и Азии из Атлантического океана в Тихий океан, осуществленный А. Э. Норденшельдом в 1878–1879 годах. С одной стороны, российские власть и публика искренне приветствовали открывателей, воздавая должное их мужеству и мастерству, с другой стороны, к радости примешивалось чувство досады оттого, что путь через «наш» Северный Ледовитый океан был открыт иностранцами. Ф. Д. Студитский решил написать свой труд, «желая доказать, что и русские принимали участие в открытии морского пути в устья сибирских рек, и что они были главными деятелями в этом деле»49. Фактически вся книга Ф. Д. Студитского посвящалась одному М. К. Сидорову, его биография отождествлялась с историей открытия морского пути в Сибирь. При этом М. К. Сидоров изображался как подвижник-одиночка, который вопреки мнению авторитетных ученых мужей «всеми силами и средствами старался доказать возможность прохода по Карскому морю», но
в своем отечестве М. Сидоров не встречал содействия; напротив, все его проекты считались фантазиями, и старались остановить мечтателя, который разорял себя – и, без сомнения, разорит и других для осуществления своей мечты… Для распространения мысли о возможности прохода морем из Европы в Обь и Енисей, М. Сидорову нужно было употребить много трудов и средств… По открытии же морского пути в Енисей оказали должное внимание в нашем отечестве тем иностранцам, которые были исполнителями его [М. Сидорова] идеи50.
Ф. Д. Студитский прямо утверждал, что если бы М. К. Сидоров получил своевременно поддержку российских научных и деловых кругов, то морской путь в Сибирь был бы открыт им уже в 1860-х годах без участия иностранцев. В итоге М. К. Сидоров представал как трагическая фигура с чертами агиографического персонажа: неуслышанный пророк, из «ревности» к освоению Севера России пожертвовавший на это дело все свое состояние и не извлекший из того никакой личной выгоды, он заложил основы современного арктического мореплавания, иначе говоря – принес отечеству и потомкам безвозмездный дар своих трудов ценою собственного разорения. «Стяжательство вовсе отсутствовало в его натуре», – писал о М. К. Сидорове уже после его смерти, последовавшей в 1887 году, «горячий его почитатель»51 член ОДСРТМ отставной генерал-майор и публицист Н. А. Шавров52:
В продолжительную мою жизнь мне не случалось встречать человека, одаренного такою сердечною, поистине евангельскою добротою и скромностью. Он делал благодеяния направо и налево, не замечая, какою рукою раздает их, и крайне конфузился, если кто-нибудь замечал это или благодарил его за сделанное добро. Михаил Константинович просто не понимал, как это можно пропустить случай сделать добро, оказать услугу, вывести из беды ближнего и руководствовался убеждением, что человеку даются силы и средства только за тем, чтобы помогать другим. Друг друга тяготы носите – было для него не принципом только, а ежедневною практикою, самым процессом жизни53.
В этом и других подобных свидетельствах сторонников М. К. Сидорова нельзя не заметить, сколь сильное впечатление производила на них личность известного «ревнителя Севера» – человека, несомненно, харизматичного, умевшего на разных публиках представлять себя в самом выгодном свете. Компаньоны и наемные работники М. К. Сидорова, годами судившиеся с ним, чтобы взыскать с предпринимателя положенные им по контрактам доли и вознаграждения, вряд ли согласились бы с оценкой Н. А. Шаврова. Но многочисленные истцы, кредиторы, идейные противники и критики М. К. Сидорова не составляли его жизнеописаний. Нарратив о М. К. Сидорове как пророке, подвижнике, предпринимателе-бессребренике формировался им самим и его сторонниками. Поэтому действительно неординарная жизнь М. К. Сидорова была уже в первых, посвященных ему сочинениях уплощена до идеологически мотивированной апологетики. Примечательно и то, что, хотя, как уже было отмечено выше и будет подробно раскрыто ниже, основоположником идеологемы «ревности о Севере» и создателем первого практического дела «ревнителей» – Печорско-Обской компании – был В. Н. Латкин, в 1880-х годах в сочинениях Ф. Д. Студитского, Н. А. Шаврова и других панегиристов «деятелей Севера» он отошел на второй план и упоминался лишь как «товарищ М. К. Сидорова»54.
В 1880–1890-х годах образ М. К. Сидорова был дополнен новыми чертами. В некрологах и ряде посвященных его памяти публикаций, в частности в сборнике докладов и материалов ОДСРТМ «Памяти Михаила Константиновича Сидорова», изданном в Москве в 1889 году, предприниматель прославлялся в первую очередь за «высоко-патриотическую деятельность»55. Авторами такого рода текстов были в основном те почитатели М. К. Сидорова, которые ближе всего восприняли перенятый им от В. Н. Латкина тезис об «иностранном заговоре» против Севера России как главной причине экономической и хозяйственной отсталости последнего (см. главу 5). Для увлеченных новомодными идеями русского национализма публицистов последнего десятилетия XIX века главной заслугой М. К. Сидорова было «разоблачение» им тайных происков врагов Отечества:
Заброшенное положение Севера вызывало особую энергию в М. К. Сидорове, так как он видел на практике, что причиною этого положения только незнание и интриги враждебных России сил, а потому поставил себе задачею разъяснить истину, доказать Правительству и общественному мнению, что искусственно закрываемые великие богатства северных областей могут доставить громадные ресурсы величию и благосостоянию России, если правда будет доведена до Верховного Руководителя судьбами нашего Отечества и сочиняемые врагами его затруднения будут устранены… Север России был совершенно заброшен не вследствие его бесполезности, а вследствие иностранной политической интриги, которая действовала систематически тайно и явно56.
Иначе говоря, на рубеже XIX–XX веков фигура М. К. Сидорова и его тексты были присвоены русскими националистами. Именно они подняли предпринимателя на щит как «стража интересов Севера России»57, как народного трибуна, на собственном опыте пришедшего к «главному основному убеждению, проходившему белою ниткою через всю его практическую деятельность – к необходимости предохранить Север от захвата его иностранцами, к необходимости предоставить настоящим хозяевам страны – русским – все выгоды промышленности этого края»58. Со свойственным националистическим публицистам алармизмом морской инженер и правый публицист В. Н. Семенкович писал в своем памфлете 1894 года. «Север России в военно-морском и коммерческом отношениях»: «…такие пионеры Севера, как Сидоров М.К… – не забудутся потомством, и их патриотические деяния, их пророческие слова должны быть оценены, и не их вина, если нам или нашим потомкам придется горько раскаиваться, что слова их не были приняты во внимание в свое время…»59 В таком же ключе В. Н. Латкина и М. К. Сидорова воспринимал такой же, как и они, страстный «ревнитель Севера», известный военно-морской деятель, полярный исследователь, один из создателей ледокола «Ермак» вице-адмирал С. О. Макаров60.
Образ М. К. Сидорова – защитника Севера России от «происков иностранцев» был окончательно закреплен в конце 1910-х годов в изданном в Петрограде в 1916 году Морским министерством сочинении П. М. Зенова «Памяти архангельского гражданина Михаила Константиновича Сидорова, стража интересов Севера. К столетию со дня его рождения» и в опубликованном в Архангельске в 1918 году Комитетом по увековечиванию памяти М. К. Сидорова сочинении А. А. Жилинского «Россия на Севере: (К описанию жизни и деятельности М. К. Сидорова)». В то время, когда военные и революционные потрясения создали новые обстоятельства развития Севера России, идеологема «ревности о Севере» была воспринята как «воплощение здравого разума России, ее забитой окружающими условиями воли и стремлений к новой жизни»61. Хотя оба упомянутых автора призывали готовиться к юбилею М. К. Сидорова, чтобы увековечить его память, – в частности, речь шла о сборе средств «на сооружение этому забытому доблестному русскому патриоту памятника в Архангельске и устройство в Петрограде музея его имени»62 – в их сочинениях не было никаких новых данных о жизни и деятельности первых «ревнителей Севера», они полностью воспроизводили фактологию и оценочные суждения апологетов М. К. Сидорова 1880-х годов.
В 1920–1930-х годах в связи с принятием государственной программы развития Северного морского пути фигура М. К. Сидорова была переосмыслена в новом ключе. На страницах советских книг, посвященных истории северного мореплавания и советскому освоению Арктики, он предстал в образе опередившего свое время прогрессивного технократа, вступившего в неравную схватку с царской бюрократией. «Тупость администрации на Севере создавала непреодолимые препятствия на каждом шагу, убийственно действовала на всякое живое начинание и, положительно, опасалась всякой новизны», – писал А. А. Жилинский о борьбе М. К. Сидорова63. В этих словах слышится ненависть А. А. Жилинского ко всякой бюрократии, с которой он, будучи в 1910–1930-х годах организатором морского зверобойного промысла в Белом и Баренцевом морях, был знаком не понаслышке64. Для таких деятелей, как А. А. Жилинский, начавших работать на Севере еще до революции и хорошо знавших историю и труды своих предшественников, «ревнители Севера» служили вдохновляющим примером. А. А. Жилинский ставил М. К. Сидорова на один уровень с М. В. Ломоносовым: «Наш крайний Север дал России двух выдающихся людей: в области науки Михаила Васильевича Ломоносова, а в области экономики и практического приложения трудов первого – Михаила Константиновича Сидорова… Михаил Ломоносов и Михаил Сидоров – это два полюса русской действительности целых столетий, между которыми заключена убогая, невежественная, во всем отсталая Россия»65. Однако тут же А. А. Жилинский замечал: «Поскольку популярно повсюду имя Ломоносова, постольку малоизвестно русскому обществу имя Сидорова»66.
Действительно, М. К. Сидоров оставался известен лишь в достаточно узком кругу советских специалистов-полярников. Будучи выходцами из дореволюционных профессиональных кругов67, они перенесли память о В. Н. Латкине, М. К. Сидорове, А. М. Сибирякове и других «деятелях Севера» в новую жизнь. Пожалуй, самым большим их почитателем был выдающийся исследователь Арктики, участник экспедиции Г. Я. Седова 1912–1914 годов, один из создателей Всесоюзного арктического института академик В. Ю. Визе. Он высоко оценивал труды А. М. Сибирякова, а М. К. Сидорова ставил в один ряд с А. Э. Норденшельдом и Ф. Нансеном, считая его видным «знатоком Севера», инициатором «снаряжения экспедиций в русские северные моря»68 и «по праву… основоположником морского пути к устьям западносибирских рек»69. Оценку В. Ю. Визе разделяли многие его современники – исследователи Арктики как в красном70, так и в белом71 лагере. Существенный вклад М. К. Сидорова и А. М. Сибирякова в освоение Северного морского пути признавали и за рубежом72. Вслед за публицистами 1880-х годов советские пропагандисты утверждали, что без финансовой поддержки А. М. Сибирякова экспедиция А. Э. Норденшельда на «Веге» вряд ли бы состоялась73. Высоко оценивалась роль М. К. Сидорова в организации первого плавания из устья Енисея в Санкт-Петербург, осуществленного в 1877 году капитаном Д. И. Шваненбергом на шхуне «Утренняя заря»74. Учитывая крайне негативное отношение советских авторов к дореволюционной буржуазии, можно сказать, что возвеличивание ими фигуры М. К. Сидорова – пусть и в достаточно узком спектре работ – случай, несомненно, уникальный. Вместе с тем, признавая заслуги «ревнителей Севера», советские специалисты отмечали прожектерский характер их деятельности: «Попытки отдельных предпринимателей к установлению торговых сношений Европа – Сибирь через Карское море, не опиравшиеся ни на необходимую степень научного познания природных препятствий на Северном Морском Пути, ни на всесторонние организованные средства для преодоления этих препятствий, были, естественно, предоставлены воле случая и часто обречены на неудачу»75. Опыт дореволюционных «ратоборцев Севера» противопоставлялся новому, советскому подходу к освоению Арктики, когда «на смену временам партизанских полуспортивных попыток частных предпринимателей использовать Карское море в целях торговли пришли времена всесторонне подготовленных в государственном масштабе планируемых операций, выполняемых организацией [Комитетом Северного морского пути], вооруженной десятилетним опытом, располагающей возможностью применения в практике эксплуатации Северного Морского Пути позднейших достижений науки и техники» (см. вкладку, ил. 1)76.
Если в 1920–1930-х годах большевистские идеологи описывали дореволюционную Россию как косное, отсталое государство, «тюрьму народов», то во второй половине 1940-х – в 1950-х, когда СССР заявил о себе как сверхдержаве, имперское прошлое страны было переосмыслено как важнейшая ступень в ее восхождении к мировому могуществу. Соединение идеи коммунистического строительства с идеей национального величия позволило объявить русский народ ведущей силой всемирно-исторического прогресса. Отныне утверждалось, что все важнейшие научные открытия были сделаны русскими учеными, все решающие победы – одержаны русской армией и флотом. Таким образом выстраивалась преемственность великих дел и свершений русского народа в прошлом и настоящем77. Общественно-политическая мысль «ревнителей Севера», в особенности В. Н. Латкина и М. К. Сидорова, идеально вписывалась в новую модель советского патриотизма. Кто, как не М. К. Сидоров, еще в 60–80-х годах XIX века вел бескомпромиссную борьбу против «низкопоклонства перед иностранщиной» и «буржуазного космополитизма» в лице фритредеров? Неудивительно, что автор изданной в 1957 году в Мурманске пропагандистской брошюры с выразительным названием «За русский Север. Из истории освоения русского Севера и борьбы с иноземными агрессорами за Северные морские пути» обильно цитировал сочинения М. К. Сидорова78.
В том же 1957 году в ежегоднике «Летопись Севера» было опубликовано сразу две статьи, посвященные деятельности В. Н. Латкина и М. К. Сидорова. Следует отметить, что «Летопись Севера» являлась печатным органом созданной в 1955 году по инициативе основоположника советского экономического североведения С. В. Славина Комиссии по проблемам Севера при Президиуме АН СССР. Комиссия не только имела большой вес в научной среде, но и, будучи связующим звеном между Академией и Госпланом СССР, влияла на практическое освоение региона79. Тот факт, что ежегодник Комиссии обращался к трудам дореволюционных «ревнителей Севера» свидетельствовал как минимум о признании значимости их наследия функционерами главного координационного центра промышленного освоения советского Севера. Обе статьи прославляли «деятелей Севера» XIX века, но если А. Е. Пробст писал о М. К. Сидорове с позиций классового подхода, в духе советских авторов 1930-х годов как о прогрессивном технократе80, то И. Л. Фрейдин81 представлял В. Н. Латкина и М. К. Сидорова в свете новых идеологических установок, прежде всего как «русских капиталистов-патриотов в деле освоения Севера»82. Статьи И. Л. Фрейдина являются прекрасным примером того, как «правильные» капиталисты вписывались в советский патриотический канон. Так, разбирая причины банкротства Печорской компании, И. Л. Фрейдин просто воспроизводил речь М. К. Сидорова – объяснение всех проблем как результата козней внешних и внутренних врагов идеально укладывалось в актуальную идеологическую схему:

