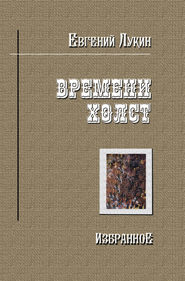скачать книгу бесплатно
Он не откликнется.
И летит Белый волк на черных крыльях, отделанных косыми молниями и заклепками, мимо вечерних огней, отраженных в маслянистых разводах Фонтанки, мимо однообразных деревьев, по-армейски постриженных, – к новой весне, к новой войне.
Нарцисс
Зажигает юноша Бесплотных свою настольную лампу барбитос, подходит к настенному зеркалу, любуется своим тонким греческим телосложением, ощупывает крепкие, налитые молодой кровью, бицепсы на руке, словно проверяет на прочность и настоящесть: «Я не бесплотен!». А потом, устроившись на диване под пледом, раскроет небольшую книжечку, где три мудреца рассуждают о Нарциссе.
«Самодостаточность черного квадрата не грозит Нарциссу, – скажет один мудрец. – Собственное, удвоенное, а затем и бесконечно размноженное отражение приводит к гиперинфляции: сказки Шахерезады не просто повторяются, они записаны на пленку, склеенную в кольцо. Казалось бы, воплощенная нарциссическая утопия. С другой стороны – полное одиночество, нет никого вокруг, только плодящиеся знаковые манифестации».
«Мир навсегда утратил уникальное свойство необычного, рискованного и вызывающего, – вздохнет другой. – Начиная со времен Колумба и великих географических открытий все и в самом деле является открытым. Но открытость эта особого рода, обратной своей стороной она имеет замкнутость мира в себе, отсутствие сакральной географии».
«Мультикультурность – это очередная попытка заглушить несчастное сознание, – добавит третий мудрец. – Если человек, удостоверившись в комфорте, отказывается от прививки опасности, от глотка радикально иного бытия, то он теряет нечто существенное. Происходит измельчение рельефа, не формируются чистые состояния души, такие как настоящий гнев, настоящая радость, настоящая ярость».
Задумается юноша Бесплотных и, отложив книжечку, подойдет к окну. Темна набережная и пустынна – лишь один черный рокер, поблескивая молниями, стремится вдоль классических чугунных оград. «Милые смешные философы! – грустно улыбнется юноша. – По Белому волку тоскуют – господа!»
Заслуженный соловей
Заслуженный соловей Чудат – черная аристократическая бабочка, потертый джемпер шерстяной – шествует вечером в театр на собственную премьеру. В сумерках Гостиного двора киоскер предлагает ему яркие эротические журнальчики, где на обложках писаные красавицы в прозрачных кружевах блистают.
«Когда итальянец изобретал скрипку, он думал о мадонне, просиявшей под флорентийским небом, – осматривая журнальчики, вспоминает Чудат бородатый анекдот. —
Когда испанец изобретал гитару, он думал о сеньоре, блеснувшей в мавританском окне. А вот о чем, интересно, думал русский мужичок, когда изобретал балалайку? Среди волнистого поля наблюдал он звезду-девицу, облаченную в сарафан, расшитый медяками. В отличие от европейцев, он думал не о прекрасной наготе – его целомудренное воображение, отстраняясь от реальности, возносилось к высокой абстракции. Он улавливал в женщине главное – равнобедренный треугольник гармонии, пифагорейский конус красоты. Русский мужичок создавал свою музыкальную геометрию любви. Его балалайка – это невинная девушка в сарафане. Ну а скрипка с гитарою – это обнаженные девицы, сверкающие голыми лядвами, как на этих обложках».
И оставил Чудат журнальчики, противный.
Над театральным подъездом фонари цветут венецианской ярью. Под фонарями два поэта стоят статуйками позеленевшими, а великий кумир Пушкин в отдалении бронзовеет – на гранитном пьедестале, в фиолетовом сумраке ветвей. «Единако дивную музыку сочинял Глиэр! – восклицает Поребриков. – Он обладал умственным зерцалом, мыслил отраженными видениями. Ему всегда был надобен образец высокой чистоты херувимской. Сей образец он возлагал на поставец и долго любовался им, а потом краски преображал в ангельские звуки. Говоря кратче, Глиэр всю жизнь строил чудесную гармонию в квадрате».
В доказательство Поребриков указывает, что известную картину Репина композитор превратил в Запорожскую симфонию, богатырское полотно Васнецова – в героическую песнь про Илью Муромца, а композицию Медного всадника – в классический балет. Но – вот ирония судьбы! – он не предполагал, что когда-нибудь найдется верный продолжатель этого тонкого зеркального дела, который возьмет его торжественный мотив как образец для вдохновения.
«Скажи, Хоть, ты ведь наверняка знал о глиэровской методе? – приветствует Бордюрчиков приближающегося соловья. – Как пить дать знал – признавайся!»
Польщенный, Чудат скромно улыбается. Целый год он состязался с академиками, предложив депутатской комиссии собственные словеса к мелодии Глиэра, объявленной величальной песнью великому городу:
Дыханье твое Медный всадник хранит.
Академики же предложили комиссии пушкинскую поэму «Люблю тебя, Петра творенье!», несколько переделав ее под музыкальную фразу. Руководствуясь духом Дельвига, комиссия постановила, что поэму великого русского поэта переделывать негоже, утвердила представленные словеса и присвоила Хотею Годовичу Чудату звание заслуженного соловья.
Поребриков, поздравляя победителя, напевает незабвенную строчку и неожиданно разражается тощим кашлем. Бордюрчиков сочувственно похлопывает приятеля по спине, извиняясь: «У всадника в зобу дыханье сперло».
Польщенный вторично, Чудат улыбается еще скромнее и обращается к афише. Тут его глаза сбиваются в кучу, а черная аристократическая бабочка сбивается набок. «Надули!» – кричит соловей, исчезая в подъезде. Поребриков недоуменно глядит на Бордюрчикова, Бордюрчиков недоуменно глядит на Поребрикова. Затем оба вперяют взгляды в театральную афишу.
К 300-летию Санкт-Петербурга
Величальная песнь великому городу
Премьера
Музыка Р. М. Глиэра
Слова Л. С. Пушкина
В Администраторской толстячок, сладкощекий и розовобровый, сидит за столиком и отбивает чеканную дробь барабанными палочками. «Не обращайте внимания, – предупреждает секретарша. – Иван Иванович с детства стучит. Он был лучшим барабанщиком в пионерском отряде. Его даже приглашали в симфонический оркестр».
«Надули!» – врывается Чудат в Администраторскую. Толстячок добарабанивает до конца энтузиастический марш Дунаевского и, отложив палочки в сторону, усаживает взволнованного соловья на диван служебных перестукиваний.
«Товарищ, успокойтесь! Я сейчас вам все объясню. – Он вежливо поправляет Чудату сбившуюся бабочку. – Товарищ, рассудите сами: музыка Глиэра, слова Пушкина – звучит? Еще как звучит! Ну а музыка Глиэра, слова, простите, Чудата – звучит? То-то и оно! Согласитесь, публика нас не поймет. Чего доброго, еще сочтет сумасшедшими. Вы ведь не хотите лечиться в больнице имени Скворцова-Степанова? Я тоже. Поэтому в наших общих интересах, чтобы на афише значилось другое, известное имя. Товарищ, не волнуйтесь: мы ведь знаем, что подлинный автор величальной песни – вы, а не Пушкин. У вас, должно быть, и постановление есть?»
«Есть, – выдавливает ошеломленный соловей. – Дома».
«Ну, вот и славненько. – Толстячок опять берется за палочки. – Ступайте, товарищ, домой, а завтра приходите с постановлением».
Под гранитным пьедесталом, в фиолетовом сумраке ветвей, сидят на скамейке друзья. «Радуйся, поэтиче! – успокаивает Поребриков окаменевшего Чудата. – Сам Пушкин сочетал свое славное будущее с тобой, когда пророчествовал: “И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет Хоть”. Это судьба, это промысл Божий! Твои стихи войдут в пушкинскую сокровищницу, аки смарагд или яспис».
«Да бесстыжий это промысл, а не Божий, – задрожав, шепчет Чудат. – Это не судьба, это катастрофа! Меня имени лишили одним взмахом барабанной палочки!»
И наводит Чудат дикие угорские взоры на великого кумира, что, осиянный нимбом, возвышается в сумрачной высоте Петербурга. И мерещится Чудату, что протягивает ему кумир дружескую руку и усмехается снисходительно: «Да ладно тебе, чудак! Читай лучше Лао-цзы!».
Стена девяти драконов
В воскресенье стоит Имялишенный у Стены Девяти Драконов, в китайском садике на Литейном проспекте, дожидается другого, Неизвестного никому. Играют перед ним в изумрудных волнах разноцветные керамические драконы, сверкая острыми гребнями и рогами. Рядом журчит источник, ниспадая по каменной горке в пруд, обложенный розовыми валунами с озера Тай Ху. На валунах, испещренных темными трещинками, сидит влюбленная парочка, беседует.
«Ты знаешь, отчего умерла Елена Генриховна? – спрашивает юноша. – Она не вынесла того, что ее не назвали по имени. Это случилось в Троицком театре. На сцену вышел поэт, сказал “дыр бул щыл” и ушел. Наступила гробовая тишина. “А мне нравится, – неожиданно сказал философ. – Здесь есть что-то дырявое, корявое, кучерявое”. А художник сказал: “Это значит – дырой будет обрыдлое рыло дураков”. А поэт обиделся: “В моем дыре русского больше, чем во всех творениях Пушкина!”. И на том разошлись. А Елена Генриховна сидела в зале и ждала, когда прочтут ее стихи:
Ветрогон, сумасброд, летатель,
создаватель весенних бурь,
мыслей взбудораженный ваятель,
гонящий лазурь!
Но никто ее не назвал, никто не прочел ее стихи. И она умерла – от безымянности».
Неизвестный никому живет за темными лесами, за глухими полустанками, на сотом километре, а в город приезжает лишь за тем, чтобы побывать в Публичной библиотеке – насладиться священными текстами «Дао дэ цзин» или «Чжуан-цзы». От зари утренней до зари вечерней бродит он по чащам непроходимым, по лугам некошеным, охотится за зверями полевыми, собирает плоды дольнего прозябания, обретает невиданные цветы от духовных возвышенностей.
Лет двадцать назад, когда могучий олимпиец, держа в руке божественный огонь физкультуры, явился в полночную страну, привели философа, не известного никому, в милицейский участок и сказали: «Ты живешь неизвестно где, занимаешься неизвестно чем, называешься неизвестно как. Не поехать ли тебе неизвестно куда?».
И поехал Неизвестный никому на сотый километр русской свободы. За двадцать лет странствий Неизвестный никому преобразился: борода и волосы раскустились, брови повисли клоками, впавшие скулы покрылись морщинами, и лишь острые, стальные глаза сияли прежним, философическим блеском. Встречая Неизвестного никому на улице, всякий удивлялся: «Это – либо Пан, либо пропал».
А Неизвестный никому тоже удивлялся юбилейным новациям. «Представь, – говорит Имялишенному, – выхожу я из Пантелеймоновской церкви и вижу, что напротив, на том самом доме, где Гнедич сотворял русскую Илиаду, где Пушкин грезил египетскими ночами, повесили памятную доску: здесь, мол, жил да был некий корейский принц Джин. А про Пушкина и Гнедича – ни слова».
«Ты мне про Пушкина не говори, – бурчит приятель. – Он меня имени лишил, да еще посоветовал читать Лао-цзы».
«Милое дело – читать Лао-цзы! У него как раз в первом параграфе “Дао дэ цзина” говорится, что именуемое творит реальное бытие. Представь, что в египетской пустыне тыщу лет стоит пирамида».
Притча о пирамиде
Давным-давно великий фараон Джосер построил в пустыне Ступенчатую пирамиду и там после кончины поселился. За каменными стенами дул переменчивый ветер, и седые пески понемногу заносили строение. Со временем никто уже не помнил, не знал про усыпальницу – она незаметно потеряла имя и как бы перестала существовать.
И вот однажды в египетскую пустыню забредает некий ходок за три моря. Подходит к пирамиде, восторгается ее небесными величинами, мочится по привычке у подножия и ножом выцарапывает на священных камнях: «Вася».
Спустя годы другой путешественник, осматривая в армейский бинокль вечность, обнаруживает пирамиду, внимательно ее обследует и наталкивается на Васину надпись. «Доннер веттер! – изумляется. – Какое мощное сооружение построил здесь Вася!» Достает он карту египетской местности и пунктуально фиксирует расположение обнаруженного объекта, помечая его именем Васи.
Спустя еще годы является третий путешественник, находит по карте объект и, закурив беломоринку, прикидывает острым глазом, сколько времени понадобится разобрать эту Васину пирамиду, чтобы построить в намеченные сроки плотину. И с той поры нет в египетской пустыне никакой усыпальницы – только ветер дует над седыми песками.
«А ведь на самом деле, – завершает рассказчик, – это была не Васина пирамида, а гробница великого фараона Джосера – культурное наследие человечества».
«Это ты к чему?»
«А к тому, что если на Стене Девяти Драконов написано “куй”, то это значит, что здесь всего-навсего побывал
Вася. В Эдеме, среди райских кущ, Адам только тем и занимался, что давал имена, а Господь присматривал за тем, правильно ли называет он птиц небесных да зверей полевых. С библейских времен человек метит пространство бытия разными именами, как зверь полевой метит территорию своего постоянного обитания. Поэтому неудивительно, что на Стене Девяти Драконов начертано неприличное словечко. Хотя в данном случае этот Вася был недалек от истины: дракончики в Китае действительно называются “куями”. Но он об этом не знал и не думал – он лишь машинально пометил территорию. Все эти графити, все эти памятные доски с корейскими принцами являются только разметкой определенного пространства бытия, его сотворением и освоением. А дальше, через тыщу лет, кто-нибудь откопает на петербургских руинах кусок поименованного гранита и всерьез подумает, что здесь был славный восточный городок, в котором жил да был милый принц Джин. А потом найдет вот эту Стену Девяти Драконов и окончательно убедится в существовании Джинограда. И только Васина надпись несколько смутит его, возбудив мысль о диком нашествии вандалов и готов».
«Ну ты, Хоттабыч, даешь».
Постмодерный батюшка
Перед пламенным алтарем церковным поникли двое – молча, недвижно, смиренно. «Должно быть, калики перехожие, – думает юноша Бесплотных, замечая, как похожи эти двое друг на друга какой-то лесной косматостью, какой-то отстраненностью нищенской от мира сего. – Хотя откуда теперь калики? И главное – куда?»
Звучит первая песнь канона, повествуя, как встают стеною воды по правую и левую сторону, образуя сухой проход для беженцев египетских, а затем по мановению Господней руки смыкаются и ввергают в море колесницы и всадников всевоинства фараонова. «Вот и Петербург, – представляет юноша Бесплотных, – стоит между водяными стенами, а мы, как египетские беженцы, идем по сухому проходу и с отчаянием смотрим вдаль, на белый просвет, на прорубленное солнечными лучами окно в облаках, пока не взмахнет Господь рукою». И такой ясною становится эта картина городского движения между разомкнутых вод, что, выйдя на улицу, вглядывается юноша в облачные столпы над городом – не мелькнет ли огненная десница в высоте?
А те двое, между тем, тоже выходят из церкви и, как по команде, одновременно расходятся в разные стороны – один спешит на Литейный проспект, а другой назад, в Египет.
«Вот как!» – сожалеет юноша, что не может раздвоиться, и следует в былое, мерцающее за углом. Калика идет настороженно, как будто третьим глазом наблюдает беспардонного преследователя. И вдруг резко разворачивается, глядит в упор: «У меня ничего нет».
«А мне ничего и не надо, – отвечает юноша. – Мне просто интересно».
Отец Евлампий – съемщик убогого времени и пространства, обрамленного круглой печью и пыльным зарешеченным окном, – говорит, что монашествует в миру. Каждый угол его петербургского измерения необычаен и неповторим. В одном углу, на деревянной полочке, стоят стоймя могучие резиновые спеченики – с красными рыбьими присосками, с двумя камушками яхонтами, вибрирующими как головастики. В другом углу светятся золотом иконы святых страстотерпцев, обретенные в окрестностях Средиземноморья. В третьем углу висят потемневшие портреты вчерашних вождей в рабочих кепках и без, а над ними поблескивает цветная фотография Самого – он сидит китайским Буддою и смиренно лепит глиняный горшочек. А четвертый угол пуст – ни полочек, ни изображений. Только под потолком тонкая паутинка струится, занавешивая некую темную прореху.
Отец Евлампий собирает на сто л вечерять – вареная картошка в мундире, нарезанный репчатый лук, окропленный горьковатым маслом, бутылка дешевого портвейна. «Это бормотуха, – предупреждает Евгений, взглянув на аляповатую этикетку – Это вообще нельзя пить».
«Можно! Еще как можно! – посмеивается хозяин. – Вот я сейчас молитовку сотворю, и преобразится бормотуха в дивное виноградное вино».
Сосредоточившись, он ворожит над бутылкой, и вино действительно становится густо-сладким и терпким. Осторожно смакует юноша обворожительный напиток – благодать!
«А что, батюшка, – интересуется Евгений, – что за инсталляции по разным углам расставлены – там фаллосы, тут иконы, там вожди, тут пустота в паутине?»
«А это, – говорит отец Евлампий, – это духовный путь наш от начала до дня сего – от языческих спечеников к святым мученикам, от святых мучеников к железным мечникам. А ныне опять к идолам – спеченикам железных мечников. У мучеников, вестимо, спечеников нет – они бесплотные и бесполые, как ангелы. А в четвертом углу – наше будущее».
«Что за будущее такое? – удивляется Евгений. – Разве возможно такое будущее, да еще с прорехами? Человек не может жить, только и направляясь в пустой угол».
«Может! Еще как может! Я хотел было поместить там фигуру огнекрылого ангела, да раздумал – не пришло еще время».
«Как не пришло?»
«Так – не пришло. Рано еще ангелу прилетать туда, где его не видят. Вот ты не обнаружил и возмущаешься. А чего возмущаться? Раз не увидел его изначально, так и при свечечке не разглядишь».
Отец Евлампий пьет, покряхтывает, Святым Духом закусывает. Вот уже и глазки замаслились любострастным блеском: «Ангелочек, – гузынит он протяжно. – Ангелочек!».
Вздрагивает юноша, как от ожога электрического: «А батюшка-то того! Ненастоящий батюшка-то!». И явственно видит он, как удлиняются влажные пальцы в осклизлые осьминожьи щупальца, как растягивается гнилозубая улыбка в огромную смердящую пасть, как проступает на рубахе острый гребень позвоночника, когда батюшка, встав из-за стола, затепляет свечечку в пустоте.
Нонконформист Эш
«Мазурики! – из пустоты чертенком выскакивает очкообразный нонконформист Эш и натыкается на Фуражкина. – Все разворовали! Абсолютно все!»
Фуражкин сочувствует безмолвно.
«Я хотел преподнести городу потрясающий презент. На его изготовление требовался сущий пустяк – всего ничего. А здесь, – нонконформист указует большим пальцем на вывеску Международного юбилейного фонда, а затем ловко преобразует большой палец в дулю, – здесь мне предлагают жуткую натуру вместо денег! Куда же деньги подевались? Мазурики разворовали!»
Очкообразный нонконформист Эш работает кривым зеркалом. В зеркале отражаются дождевые облака, архитектурные сооружения, люди. Последние не просто отражаются, но сначала исчезают в зеркале, как в глухой черной дыре, а потом возвращаются оттуда чудовищными карикатурами, над которыми следует потешаться, которых надобно уничтожать, как тараканов, поскольку они уже перестают быть людьми. Фуражкин, конечно, знал о зеркальных способностях нонконформиста, знал его пресловутую формулу: «Свобода – это я!», но почему-то старался быть с Эшем особенно вежливым и предупредительным, хотя тот и считал стоящую перед ним особь полнейшим ничтожеством.
«А внешне выглядит интеллигентом, – сочувствует Фуражкин безмолвно. – Правда, с несколько раздерганной бородкой».
Международный юбилейный фонд «Незабываемое торжество» возглавляет славная профессорша Пустошка.
«Мечтайте!» – то и дело призывает она горожан. Как ни странно, некоторые горожане относятся к этим призывам всерьез. Тихими петербургскими ночами они мечтают то восстановить растаявший некогда Ледяной дом императрицы Анны Иоанновны и устроить там круглосуточное бюро бракосочетаний, то привезти из Греции оливковые ветви мира и вручить жильцам коммуналок, взяв с них расписки о вековечной любви, то подарить каждому чужеземному гостю хрустальный аквариум с золотой рыбкой, обладающей волшебными свойствами. В общем, несть числа их небывалым ночным мечтам, которые поутру превращаются в своеобразные проекты – зачастую с фантастическими чертежами и не менее фантастическими суммами. С этими проектами они устремляются в Международный юбилейный фонд – к славной профессорше Пустошке.
«Сарынь на кичку!» – громыхает, к примеру, сапогами кошевой атаман Корнилов, пышноусый и золотопогонный. Уже лет десять он находится в поисках некогда утраченного знамени Семеновского полка. За сим и собирается посетить города Рим, Париж, Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Мехико, Рио-де-Жанейро, Токио, Пекин, Дели, Тегеран, Иерусалим, Каир и Афины. Необходимо только оплатить командировочные расходы. Ознакомившись с перечнем мировых столиц, славная профессорша Пустошка осведомляется: «А где Катманду? В Катманду тоже надо бы съездить! Быть может, заветное знамя найдется в тибетских апогеях». И уходит кошевой атаман Корнилов, развеселый и обнадеженный, дополнять список городов.
Или, к примеру, куртуазно шевелит тапочками очкообразный нонконформист Эш: «Мадам, лично мне ничего не нужно. Я прошу вас только об одном – дайте возможность преподнести любимому городу потрясающий презент». Потрясающим презентом является трехсотсерийный фильм «Одна волшебная ночь Екатерины под телегой фельдмаршала Меншикова». Необходимо только оплатить четырехколесный реквизит, съемочные бдения да монтажные радения – всего-навсего миллион за каждую серию. Ознакомившись со сценарием, славная профессорша Пустошка уточняет: «А кто будет играть фельдмаршала Меншикова? Неужели вы? Ну, тогда я готова сыграть Екатерину Согласны?».
Фуражкин закрывает глаза, и светлая петербургская ночь возникает перед ним. Пылают на крепостных бастионах факелы. Огненные отблески колеблются на речной глади. А вверху, на золоченом острие, чистою слезинкой искрится ангел. Ровно в полночь внезапно срывается он с острия и медленно облетает город по кругу, пока струятся торжественные звуки и нарядные горожане, толпясь на набережных, громкими радостными криками приветствуют его.
«Ангел на ре-став-ра-ци-и! – прерывает чудесное видение профессорша Пустошка. – Его поворотный механизм износился. Правда, реставрация уже закончена, и он завтра вернется на яблоко Петропавловского шпиля. Однако ваш проект ангела, в юбилейную полночь кружащего над акваторией Невы, замечателен. Он преисполнен прекрасной поэзии. Но я никак не представляю его техническую сторону. Быть может, у вас имеются необходимые летательные расчеты и прочая небесная геометрия? Обязательно принесите! Мне хотелось бы взглянуть на механику вашего ангельского замысла, понять ее сокровенную суть. Ей-Богу, как же он полетит?»
«На крыльях мысли и вдохновения!»
Шестое доказательство
Информационное сообщение агентства «Новости» (Россия)
Профессор Башкирского государственного университета научно доказал существование Бога. Как сообщается, суть его открытия состоит в том, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Затем профессор неожиданно для себя получил письмо из Ватикана от папы Римского, в котором говорится, что Его Святейшество посвящает ученому свои молитвы и очень ценит те чувства, которые его сподвигли написать эту монографию. Профессор-мусульманин отправился к Верховному муфтию России. Тот сразу ухватил главную мысль книги: «В Коране сказано:
Аллах всякой вещи свидетель”. Вы же доказали, что это так». Профессор перечитал Коран, Библию, Тору и удивился, насколько точно в их текстах обозначена суть его научного открытия. «Мысль материальна, – уверен ученый, – и ее можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной».
Номерок
«Здесь!» – Он махнул рукой в сторону огромной воронки, зияющей на окраине Бамута. Была поздняя-поздняя осень, и деревья стояли пожухлые, с обнаженными стволами, изрешеченными осколками и пулями. Воронка успела обметаться опавшей листвой, и лишь кое-где по краям темнела тяжелая глинистая земля. Рослый густобородый чеченец, показавший место, молча отвернулся – за ним в сгустках вечернего тумана виднелись развалины.
Бамут казался мертвым селением. «Добро пожаловать в ад!» – гласила самодельная надпись над входом в полуразрушенное кирпичное строение, превращенное в неприступную крепость: окна были забаррикадированы мешками с песком, между мешками скалились амбразуры. На воротах темно-небесного цвета покоился силуэт матерого хищника, и выцветал клыкастый призыв: «Свободу волкам!». Кругом царил хаос – глыбы развороченного бетона, обломки ржавого кирпича, искореженные линии водопроводных труб.
Фуражкин наблюдал обыденный хаос войны, к которому попривык за последнее время. Но сейчас что-то мешало ему принять эту картину как жестокую, но привычную данность. И вдруг его поразила ясная, беспощадная мысль – в селении не было никаких признаков жизни: не выглядывали из-за руин испуганные жители, не копошилась во дворах домашняя живность, не брехали за глухими заборами собаки. Казалось, даже птицы не летали над этим опустошенным селением, где раз и навсегда водворилась смерть.
Недавно прошел дождь, и копать было трудно – земля на дне воронки стала вязкой, густой. Солдатики срезали почву небольшими слоями. Быстро темнело. Пришлось подогнать грузовик и зажечь фары, направив желтые рассеянные лучи на раскопки. Наконец штык лопаты наткнулся на что-то твердое: «Есть!».
Начали откапывать живее. Постепенно из земли проступил неясный образ – скорченное туловище, без головы, лежало на дне воронки. Плоть уже подверглась гниению, и в воздухе появился тлетворный запах. Солдатики нацепили на нос марлевые повязки, натянули белые медицинские перчатки, принялись осторожно раздвигать полуистлевшие зеленые лохмотья.
«Пытаются найти воинский номерок, чтобы установить имя, – объяснял для себя Фуражкин странные изыскания в потемках. – Но номерок не всегда бывает в наличии. Это плохая примета – носить на шее номерок. Это означает почти неминуемую гибель. Многие идут в бой без номерков, не видя в них спасения».
«Вот и опознавай без номерка», – сказал офицер, возглавлявший группу поиска. Он поторапливал солдат, хотя прекрасно понимал, что торопиться уже некуда, что теперь находится на месте, что и покрикивать, и распоряжаться другими уже бессмысленно. Но в силу своей земной ответственности за происходящее продолжал, как бы исподволь, соучаствовать в поисках: «Ну как опознавать без номерка?».