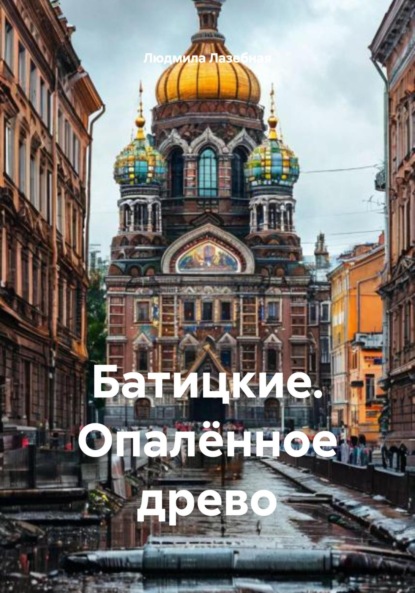
Полная версия:
Батицкие. Опалённое древо
Взвешивая всю опасность создавшейся ситуации, зная о поставках тысяч баллонов отравляющего газа из немецкого тыла, о наличии противогазов в войсках германцев и об их отсутствии в Российской армии, он скрупулезно обдумывал варианты спасения численного состава защитников крепости и искал выход из этой ловушки.
– Ваш бродь! – обратился к нему старый солдат Кузоватов, прошедший несколько войн с турками за свои тридцать c лишним лет службы в армии. – Я вот чаво придумал. Можа, нам водицы с сольцей развесть на случай газовой-то атаки? Рубахи нательные на тряпки пустить, промочить в соленой-то воде их да обмотать имя свои физиономии, хоть малость, да смогёт дыхать давать. Вот как по болотам мы давеча ходили. Газ-то – он и на болоте шибко едущий быват. Чем слаще поначалу кажется, тем быстрей всё внутри отравлят и дыхалку обжигат, так уж вот.
– Хорошая мысль! Молодец! Хвалю! Бери с собой молодцев, несите воду, соль, готовьте раствор, братцы! Живо! Молодец, братец! – кивнул он Кузоватову.
– А ещё, коль раствору-то не хватит, можно по малой нужде на тряпку сходить – помочица, и тоже годно будет для спасения. Так старые люди по болотам за морошкой испокон веков ходють, – вдохновившись похвалой командира, добавил старый вояка.
– Господин поручик, – обратился Свечников к военному топографу Батицкому, сосредоточенно выверявшему расстояния на карте и наносящему условные знаки.
– Слушаю-с! – молодецки щелкнув каблуками и выпрямившись возле карты, ответил Антон.
– Антон, впереди неизвестность. Я хочу, чтобы вы приняли на себя правый фланг.
– Есть принять на себя правый фланг! – отчеканил Антон.
– Ну и славно! А по центру мы предложим германцам пулеметы, – задумчиво добавил Свечников, внимательно вглядываясь в карту, разложенную на деревянном столе, наспех сколоченном из нескольких бревен и досок на пример приспособления для распила дров, называемого в народе «козлом».
* * *
Как всегда, быстро пролетела весна. И уже к зениту подходило лето одна тысяча девятьсот пятнадцатого года, завершая первый год Великой войны. В Восточной Пруссии началось немецкое наступление. Пятого августа противник захватил Ковно, где находилась крупнейшая русская крепость. Затем в десятидневный срок немецкие войска штурмом взяли гордость Российской империи – цитадель Новогеоргиевск, состоявшую из тридцати трех бронированных фортов на территории двести квадратных километров. Новогеоргиевская крепость, с точки зрения военной науки, считалась неприступной: её защищали сто тысяч штыков, а в арсеналах хранились сотни тысяч снарядов для более тысячи стволов орудий разного калибра. Морально разложившийся гарнизон, позарившись на предложенные немцами «большие» деньги, сдался практически без боя «на милость врагу» во главе с комендантом, двумя с лишним десятками русских генералов, двумя тысячами офицеров, передав противнику невероятно сильную, современную крепость неповрежденной и наполненной боезапасом. Предательству, подлости и трусости тоже есть место на войне. И не только… Так устроен человек, что способен на многое… Но в российской истории это был один из самых постыдных примеров! Германская армия продолжила победное шествие по дорогам Европы.
Воодушевленный военными успехами, германский император Вильгельм II неожиданно для себя вновь вспомнил про всё ещё сражавшийся Осовец, накрепко остановивший немцев, словно в капкане застрявших под его стенами ещё с начала сентября 1914 года. Легендарная слава героев всё ещё непокоренной маленькой крепости, находившейся уже в тылу у немцев на Северо-Западном фронте, поддерживала дух отступающих русских войск. Кайзер Вильгельм нервно поморщился и в бессильном гневе вслух поклялся устроить непокорным русским настоящий Армагеддон, дав команду своим генералам во что бы то ни стало любой ценой стереть с лица земли это болотное «Осиное гнездо». (Так дословно переводится с западноукраинского диалекта название крепости Осовец.)
Поскольку строился Осовец задолго до появления авиации, в период Великой войны это обстоятельство было одним из самых уязвимых моментов для защитников крепости. Лишь четыре из восемнадцати батарей имели укрытие. Когда в небе появился первый немецкий аэроплан-разведчик и начал обзор расположения укреплений крепости, чтобы по возвращению нанести их на карту, многие русские воины не обратили на это внимания. Кроме военного топографа Антона Батицкого, доложившего командованию, что враг может без особого труда определить слабые места в обороне и нужно принять оперативные меры по маскировке территории.
Коменданту план поручика понравился. Сверкавшие на солнце, наполненные водой рвы, блестевшие поверхности казарменных стен, выкрашенных масляной краской, орудия, брустверы, даже кресты и купола Покровского полкового храма срочно затянули маскировочной сеткой, брезентом либо перекрасили под цвет земли. А местами и вовсе крепостные сооружения закрыли нарубленными стволами деревьев с густыми кронами. Словом, поручик Батицкий остался доволен проделанной работой. Теперь с воздуха небольшая крепостная территория была похожа на… такой же Августовский лес, в котором находились и немецкие позиции и который рос повсюду в этом районе недалеко от городка Августово.
На работах по маскировке крепости Осовец были задействованы все участники обороны: гусары, артиллеристы, пехота, священники, легкораненые пришли на помощь из крепостного госпиталя. Несколько тысяч русских воинов вложили свой вклад в защиту крепости с воздуха. И это дало результат, проверенный военным топографом Батицким с помощью запуска аэростата. Обычно аэростаты поднимали над крепостью, чтобы следить за отдаленными позициями и действиями противника. Их данные позволяли корректировать работу артиллерии, наносить точную топографическую съёмку местности на карту. Несколько раз с помощью аэростатов защитники смогли разглядеть немецких шпионов, переодетых в женские платья, и захватить их в плен. Но этот запуск новейшего технического средства ведения войны явился проверкой своих собственных мер по защите с воздуха. «Осиное гнездо», словно крепость-призрак, для аэропланов и артиллерии противника растворилось в тумане среди белорусских лесов и болот. И это обстоятельство навело ужас на вымотанных морально и физически врагов, буквально уверовавших в то, что крепость Осовец им не взять никогда… Если русские пушки вели всегда прицельный и точный огонь по врагу, то многочисленная легкая и тяжелая артиллерия немцев била по крепости вслепую. Практически только один из десяти выпущенных снарядов мог попасть на территорию крепости, которая была чуть меньше двадцати квадратных километров. Остальные проносились мимо, падали в реку Бобр и окрестности Августовского леса. То же можно было сказать и про неэффективность работы немецкой авиации, действующей в основном вслепую из-за хорошей крепостной маскировки и дымовой завесы.
* * *
На поле сражения был кромешный ад! Видя, что пехота, артиллерия и авиация не справляются со своими задачами, немцы стали готовить газовую атаку. Несмотря на Гаагскую конвенцию 1899 года, запретившую использовать отравляющее оружие, в ходе Первой мировой войны оно использовалось многократно, причем всеми противоборствующими сторонами. Впервые в ХХ веке химическое оружие было применено в Великую войну немцами против англо-французских войск в апреле 1915 года. Тогда за восемь минут распыления газовых баллонов с хлором погибли более пяти тысяч человек, десять тысяч получили страшные ожоги глаз, легких и других органов. Исходя из лозунга «Германия – превыше всего!» и повинуясь приказу кайзера стереть Осовец с лица земли, немецкие войска вновь решились на преступление перед человечеством и применили свой новый боевой опыт, прекрасно понимая, что у русских бойцов нет специальных средств защиты.
Газовую атаку на Осовецкую крепость немцы готовили тщательно, терпеливо выжидая нужного ветра, развернули тридцать газобаллонных батарей, зарядили пушки снарядами, начиненными хлорпикрином. И 24 июля (6 августа) в четыре часа утра на русские позиции потек темно-зеленый туман смеси из хлора с бромом, от которого падали в полете птицы, гибли на ходу звери, мгновенно засыхала и скручивалась трава, с деревьев облетали засохшие листья. Искусственное смертоносное облако достигло крепости Осовец за считаные минуты. Газовая волна до пятнадцати метров в высоту и шириной восемь километров проникла на глубину до двадцати километров, уничтожив всё живое, что было в природе. Погибло почти мгновенно несколько тысяч русских солдат. Остальные получили смертельные ожоги, лишь единицы успели до того, как облако с газом дошло до крепости, намочить водой с солью специально приготовленные повязки и ими укутать лица, эта мера спасла им жизнь.
Одновременно с газовой атакой начался массированный артобстрел цитадели. После применения газа немцы отправили вперед разведчиков. И те донесли, что на первых линиях обороны зафиксировано около тысячи шестисот погибших русских бойцов. Вскоре на штурм русских позиций двинулись четырнадцать штурмовых групп 18-го ландверного полка, насчитывающих свыше шести тысяч пехотинцев, оснащенных противогазами. Их целью был захват обезлюдевшей, стратегически важной Сосненской позиции. Военачальники обещали немецким солдатам легкую победу, будучи искренне уверенными, что штурмовики в крепости никого не встретят, кроме мертвецов. Завезли даже деликатесы, шампанское и красное вино, чтобы громко отпраздновать столь желанную победу.
У русских воинов не было противогазов, поэтому хлор нанес ужасные увечья и химические ожоги всем, кто ещё оставался в живых. При дыхании и попытках говорить у людей вырывался хрип, и из лёгких шла кровавая пена. Кожа на руках и лицах пузырилась. Тряпки, смоченные солевым раствором, которыми русские солдаты обмотали лица, уже не помогали. Однако вскоре, к изумлению немцев, русская артиллерия начала снова действовать, посылая из зеленого хлорного облака снаряд за снарядом в сторону ненавистных захватчиков. Это комендант Осовца – генерал-лейтенант Николай Бржозовский – отдал приказ всем, кто его слышит, начинать бой. Начальник штаба обороны крепости, капитан Михаил Свечников, сотрясаясь от жуткого кашля, прохрипел: «Други мои, не помирать же нам от потравы, как тараканам-прусакам! Покажем им, чтобы помнили вовек!»
Ещё минуту назад врагу казалось, что крепость обречена и уже взята. Густые, многочисленные немецкие цепи подходили всё ближе и ближе… И в этот момент из ядовито-зеленого хлорного тумана на них обрушилась… психическая контратака!
Навстречу немцам, словно заговорённые и восставшие из могил и пепла, покачиваясь от боли, упрямо шли вперёд русские солдаты, внешне походившие на живых мертвецов с обожженными темно-коричневыми лицами, обмотанными кровавыми тряпками. Кричать «ура!» сил не было. Бойцы сотрясались от кашля, многие выхаркивали куски легких на окровавленные гимнастерки… Но шли. Русские шли в полный рост. В штыковую. Измученные, отравленные, они шли с единственной целью – раздавить врага, а если понадобится, разорвать его даже голыми руками. Отставших не было, плечо к плечу воины держали строй, как могли, не надо было никого торопить. И в этой атаке не было отдельных героев. Оставшиеся в живых защитники крепости Осовец шли как один человек, воодушевленные только одной целью, одной мыслью: погибнуть, но отомстить подлым отравителям. Мужественные русские воины, презрев смерть, повергли противника в такой неописуемый ужас, что немцы, не приняв боя, ринулись назад. В панике топча друг друга, путаясь и повисая на собственных заграждениях из колючей проволоки, в отчаянии срывая противогазы и глотая ими же отравленный хлором воздух, враги получали увечья и отравления, как у защитников крепости, и падали замертво. А вдогонку по убегающим немецким штурмовикам всё дружнее метко, словно из преисподней, била снарядами, казалось бы, уже давно мертвая, но внезапно также ожившая русская артиллерия.
В ходе этого страшного последнего сражения полторы сотни полуживых солдат и офицеров, собравшихся на передовую позицию из остатков трех рот, своей несгибаемой силой духа обратили в бегство превосходящего их в разы по численности, но морально сломленного противника. О нереальном кошмаре немцев, случившемся под стенами горящей Осовецкой крепости в годы Великой войны, говорили долго. Об этом беспримерном подвиге русских солдат писали все мировые газеты.
В сентябре 1915 года царские войска были вынуждены оставить неприятелю города Белосток, Гродно, Вильно, Лиду, Брест-Литовск и другие населенные пункты Гродненской губернии, попавшей, как и польские территории бывшей Российской империи, под первую немецкую оккупацию. Русские защитники так и не сдали крепость Осовец. Остатки героического гарнизона были эвакуированы и размещены по фронтовым госпиталям, оружие и вся материальная часть вывезены на другие участки фронта, а уцелевшие редуты и другие помещения взорвали саперы.
* * *
В августе профессору Батицкому пришла телефонограмма из Гродно о том, что его сын, поручик Батицкий А. С., служивший в инженерной воздухоплавательной роте Осовецкого гарнизона, находится в госпитале в крайне тяжелом состоянии. Сергей Васильевич, недолго думая и не предупреждая супругу, отправился в Гродно, практически на линию фронта. В полевом госпитале он с трудом нашел своего старшего сына. Антон чудом остался в живых после газовой атаки германских войск в том самом жутком сражении, которое позднее будет названо немногими выжившими очевидцами атакой «мертвецов»…
– Ваше благородие, Сергей Василич, очнитесь! – услышал профессор Батицкий слова раненого солдата, сопровождавшего их с сыном в Петроград. – Антон Сергеич вас позвать изволили. Сильный духом наш поручик! Мы за ним хоть под газ к немцу, хоть к черту в пекло! Жалко его, молодой еще!
– Ничего, братец, были бы кости, а мясо нарастет! – по-отечески посмотрев на солдата и дотронувшись до его плеча, сказал профессор и направился по вагону к тому месту, где лежал тяжело раненный Антон…
Впереди у военного топографа, поручика инженерных войск, Георгиевского кавалера Антона Батицкого, потерявшего в последнем жутком сражении за крепость Осовец левую руку и зрение, будет длительное лечение, после которого он вернется в родной и любимый Петроград, где в доме на улице Пушкинской, 19 его встретит трепетная Варварушка. В этом уютном семейном гнездышке на долгие годы поселятся любовь и счастье – высшая награда Высших Сил герою-воину и этой любящей и верной русской красавице.
Пройдет совсем немного времени, свершится Октябрьская революция. В 1922 году профессор Батицкий вместе с верной супругой Татьяной Петровной и сыном Николаем навсегда принудительно покинут Петроград. Вместе с ними на так называемом «философском пароходе» из Советской России будут выдворены в Германию многие видные российские ученые и представители оппозиционной интеллигенции, которые позднее составят цвет мировой науки и культуры. Кому же это будет «выгодно», если за рубежом окажутся лучшие умы и непревзойденные таланты погибшей Российской империи? Операция по высылке из страны известных деятелей науки и искусства, не принявших революционные идеи, пройдет по личной инициативе и под руководством Ленина, который уйдёт в мир иной всего через два года… А термин «философский пароход» появится много лет позже, его придумает другой русский философ и математик.
Часть 2
Батицкие. Гимн любви
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится.
Первое послание апостола Павла
к Коринфянам 13:4–8
* * *
Шёл одна тысяча девятьсот двадцать шестой год. Раннее солнечное утро Благовещения Пресвятой Богородицы – одного
из двенадцати главных православных христианских праздников, посвященного возвещению архангелом Гавриилом юной Деве Марии о будущем рождении от неё Иисуса Христа во плоти, – выдалось солнечным и теплым, как и многие из весенних апрельских дней в Ленинграде. К этому времени по Советской России, буквально во все её уголки, уже разнеслась другая благая весть, которую с особой духовной радостью восприняла интеллигенция города на Неве. На гребне внутрипартийной борьбы в рядах большевиков 26 марта Иосиф Сталин отстранил от должности бывшего главу Коминтерна и председателя Петроградского (Ленинградского) совета рабочих и солдатских депутатов Григория Зиновьева, прославившегося неоправданно жестоким «красным террором» в отношении бывшего дворянства, духовенства и других «классовых врагов» революции.
За годы пребывания большевиков у власти многое было безвозвратно утеряно, а многое изменилось. Это касалось и народа. Население Петрограда и Кронштадта уменьшилось с двух с половиной миллионов до семисот тысяч человек. Десятки тысяч ни в чем не повинных жертв нового режима, в том числе офицеров царской армии, георгиевских кавалеров, доблестных защитников родины, были расстреляны лишь за классовую принадлежность. Узнав о смещении диктатора, в город стали возвращаться уцелевшие от репрессий люди…
Уже восемь лет прошло с тех пор, когда Совнарком принял «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви», а религия была объявлена «опиумом для народа», но и нынче то тут, то там по стране безбожники не переставали взрывать церкви, демонстративно подвергая поруганию и уничтожению российские святыни. Колокола и православные кресты с куполов эти воинствующие атеисты с неугасаемой классовой яростью сбрасывали на землю и затем как металлолом отправляли на переплавку. Сия жесточайшая участь не миновала и древние, величественные ленинградские храмы, многие из которых стояли заколоченными, а иные были отданы на нужды народного хозяйства – приспособлены под морги, картофелехранилища, склады либо перестроены в кинотеатры или клубы. Из одного только Казанского собора в двадцать втором году было вывезено более двух тонн серебра… А сам храм Казанской иконы Божией Матери, являвшийся во времена Российской империи памятником воинской славы Отечества, «перепрофилировали» из культового сооружения в храм науки и просвещения, действующий под эгидой Академии наук СССР. Первым делом большевики сняли православные кресты. Монументальное здание на Невском стало называться Государственным музеем истории религии и атеизма… Ещё бы! Здесь был упокоен великий полководец Михаил Кутузов. Начало советской экспозиции, включавшей в себя шедевры, доставленные из Русского музея, Эрмитажа, Кунсткамеры, Библиотеки Академии наук, положили экспонаты, сохранённые в Казанском с 1812 года. Здесь в назидание врагам России хранились военные трофеи царской армии-победительницы: ключи от покоренных ею десятков городов Европы, французские штандарты и армейские знамёна, жезл одного из наполеоновских маршалов. Но это, как говорится, факты уже случившиеся. Нынче же советские газеты радостно трубили про подготовку к Пленуму Ленинградского губкома ВКП(б), где должен был выступить сам товарищ Сталин с речью «О хозяйственном положении Советского Союза и политике партии». Поскольку торжественное мероприятие планировалось провести менее чем через неделю, Ленинград повсюду украшали красными кумачовыми флагами, транспарантами и портретами вождей революции…
С самого рассвета в ленинградских парках и садах слышался по-особенному громкий и праздничный птичий гомон, словно сама природа, а вместе с ней и весна-красна решили птичьим пением заменить малиновый переливный звон прежде звучащих в этот час по всему городу колоколов. Утром седьмого апреля, несмотря ни на что, праздник Благовещения вступал в свои права. На фоне проводимой партией политики атеизма в обществе всё ещё сохранились крепкие религиозные устои. Православный пост шёл своим привычным ходом. Жители Северной Пальмиры, как могли, поддерживали в условиях строящегося социализма веками созданные народом патриархальные традиции: этим ясным апрельским утром многие с благоговением завтракали рыбой. Так и повелось у простых людей – отмечать все праздники подряд: государственные и православные, по-новому и по старому стилю. Не был исключением и двадцать шестой год…
В некогда доходном доме Правошинского, что на углу Кузнечного переулка, 16 и улицы Пушкинской, 19, в бывшей квартире профессора математики Санкт-Петербургского университета Сергея Васильевича Батицкого царила утренняя суета. Теперь это была уже не элитная квартира, а коммуналка, в которой помимо семьи его старшего сына – писателя Антона Батицкого – проживало ещё несколько семей советских граждан. В результате экспроприации и уплотнения из просторных шести комнат с кухней и подсобными помещениями, занимаемыми до революции Батицкими, теперь за ними осталось менее половины от прежней жилплощади. Но это обстоятельство в нынешних условиях мало огорчало главу семьи и всех домочадцев. «Главное, что у нас есть крыша над головой!» – часто говорил Антон Сергеевич, в первую очередь успокаивая самого себя. И действительно, не каждой семье из «бывших» так повезло при советской власти. Милый дом, родные стены, которые хранят память о прошлом! Уютные три комнаты – вполне приемлемо. Окна двух самых просторных комнат удачно выходили со стороны парадного фасада дома на Пушкинскую улицу. А из третьей, детской комнаты виден тихий внутренний двор, что было весьма удобно и способствовало спокойствию во время сна младших членов семьи.
Время, как известно, не стоит на месте, оно меняет не только людей, но и всё, что их окружает. За годы, прошедшие со времени эмиграции родителей и младшего брата, Антон Батицкий, увлеченно занимаясь литературой, стал довольно известным советским писателем, чьё творчество горячо поддержали Максим Горький и Алексей Толстой, Михаил Булгаков и Валентин Катаев. Когда в двадцатом году в Петрограде образовался Всероссийский союз писателей, Антона приняли туда одним из первых. Он даже был избран в состав правления, куда вошли лучшие авторы питерского отделения: драматург и эссеист Теодор Сологуб, поэты Александр Блок, Николай Гумилёв, Корней Чуковский и Анна Ахматова, историк литературы, пушкинист Владислав Ходасевич. Членство в творческом союзе давало советским писателям главное право – не считаться тунеядцем, официально работать на дому, получать от государства заработок и дополнительный продуктовый паёк. Спустя несколько лет в каждой библиотеке Советского Союза можно было найти увлекательные исторические и приключенческие книги Антона Батицкого. Развивая советскую литературу, страна взяла на себя заботу и ответственность покрывать за свой счёт немалые расходы на издание и печатание книг и литературных журналов, выпускающих всевозможные авторские новинки. Жизнь шла своим чередом, подчиняясь требованиям времени. Однако традиции, свойственные патриархальным семьям, которые приходилось скрывать все советские годы от чужого любопытного глаза, в большинстве своём оставались нерушимыми.
Вот и теперь в канун церковного праздника Благовещения вся квартира Батицких была заранее убрана и наряжена с особой любовью нынешней хозяйкой Варварой Михайловной. Родившись в крестьянской семье, Варенька с детства знала: в Благовещение в природе совершается священное таинство, поэтому любая работа в этот торжественный день считалась грехом. Как учила народная мудрость, даже «птица гнездо не вьёт, а девица косу не плетёт», когда происходит снисхождение Святого Духа на землю. В православной Руси Благовещение и по сей день символизирует не только радость зарождения Божественной жизни, но и олицетворяет собой начало нового жизненного цикла, продолжение рода человеческого и весеннее обновление существующего мира…
В спальной комнате Батицких за плотно закрытой дверью неторопливо догорала церковная свеча, окутывая тонкой змейкой душистого дымка резной киот старинной иконы Владимирской Божией Матери. По случаю Благовещения Варвара достала икону из нижнего ящика комода, где она хранилась, аккуратно завёрнутая в белое вафельное полотенце. Прежде семейные, годами намоленные иконы Батицких стояли на иконостасе из красного дерева в гостиной, а теперь были припрятаны подальше от недобрых посторонних глаз. Помолившись, Варя погасила огарок свечи, убрала икону на прежнее место и открыла форточку, чтобы проветрить комнату. Пока помещение наполнялось свежим воздухом, она поправила белые салфетки на спинке старинных кресел. Окинув внимательным взглядом комнату, хозяйка осталась довольна собой. Варя была убеждена, что кружевные накрахмаленные салфетки создают праздничный вид и уют. Несмотря на то что одну треть спальни занимала широкая супружеская постель, заправленная стеганым голубым покрывалом, поверх которого лежали пуховые подушки, покрытые прозрачной капроновой накидкой, комната все равно была просторной. В углу был встроен резной трехстворчатый шкаф для одежды и постельного белья, который пришлось после получения ордера на «уплотнение» слегка переделывать и укорачивать в длину, чтобы втиснуть в имеющееся пространство. На противоположной стене, над комодом, висел портрет Татьяны Петровны Батицкой кисти неизвестного петербуржского художника начала века.



