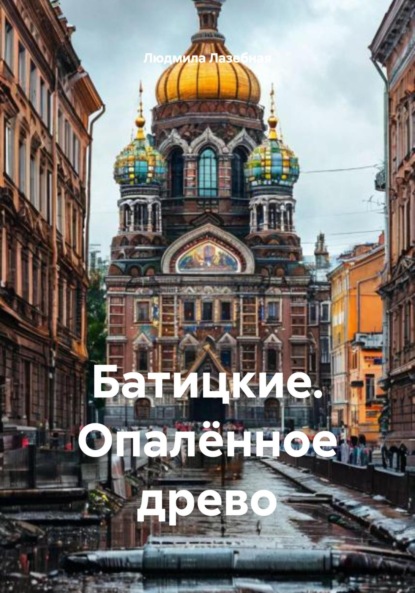
Полная версия:
Батицкие. Опалённое древо
– Вот, барыня, на ноня хватя! Сработала малость. Развязала, малясь, страховыя узлы. Через три дни приходьтя. Никому про то, что тут слыхали, видали, не говоритя! А то не поможет. Пущай барин нони поспит, а завтри спозаранку святой водицей обмоется да в чистую сряду облачица. Помогу яму, хороший он, добрый шибко! Чужую бяду на себя принял. Бесы баловались, на чистую душу наскочили, душа та к Богу отлетела, а бесам барин попалси, вот они и влезли в няго. Ну, ничаво, сработаю.
– Я мало что поняла, вы мне скажите, поможете ли моему сыну?
– Дык я и сказала, сработаю.
– А что я вам за это должна?
– Никому не говори, никому! А мине принесёшь то, чаво тебе, барынька, не жалко. Лишка не возьму, нельзя! А сынок твой поправица. Пущай поспит нони поболе. Ну ступайтя! Устала я, отдых мне нужон таперича, – сказала Марфа, провожая Татьяну Петровну и Николая за порог.
Действительно, вернувшись от знахарки, Николя уснул и проспал почти сутки. Проснувшись, он умылся и облился святой водой, как и наказывала бабка Марфа, а потом вдруг решил позавтракать без принуждения и прогуляться. Татьяна Петровна, привыкшая за эти долгие месяцы следовать за ним по пятам, с удивлением смотрела на сына и боялась, что вот-вот он снова замолчит.
Походы к бабке дали положительные результаты. Татьяна Петровна, совершенно очарованная ведуньей, готова была целовать ей руки. Николя стал совсем другим, доброжелательнее и общительнее, чем прежде, до несчастного случая. На прощание барыня щедро отблагодарила бабушку Марфу, но взяла знахарка лишь то, что посчитала нужным, – шаль с кистями, которую тут же радостно накинула себе на плечи, и степенно поклонилась барыне.
* * *
Наступил долгожданный теплый месяц май, и всё вокруг окрасилось в яркие тона. Защебетали птицы. Зацвела черемуха, своим белым цветом вернув на пару дней прохладу и заморозки, а затем, одумавшись, заблагоухала душистым ароматом. Под солнечными лучами начали распускаться и садовые деревья, и кусты сирени. Татьяна Петровна и Николя совсем привыкли к милой и размеренной жизни в деревне. И пока не торопились возвращаться в Петербург. Николя окончательно выздоровел, окреп и возмужал. Казалось, что и не было тех страшных месяцев страданий и депрессии. Иногда они с маменькой, гуляя по аллеям старинного парка в усадьбе Городище, обменивались мнениями о неизученной и непризнанной народной медицине, секретах белой и черной магии, о знахарстве, ворожбе и колдовстве, о потомственных целителях и ведунах, коими богата пензенская земля. Оба обещали друг другу никому и никогда не рассказывать о своих встречах с таинственной бабкой Марфой, но в случае важной необходимости всё-таки направить к их деревенской знахарке того, кто будет нуждаться в её тайных знаниях и чудесной помощи.
Варварушка, догадываясь о том, кто вылечил молодого барина, молчала, как рыба. Чем дольше она жила вблизи этой семьи, тем лучше узнавала и понимала Батицких. И тем больше молилась об их благополучии и здоровье, вспоминая добрым словом и доброго дядьку Тимофея, и профессора Сергея Васильевича, взявшего к себе в столицу её, оставшуюся круглой сиротой, дочку бывшей барской кухарки. Но тяжелее всякой ноши на плечах скромной деревенской девушки было то, что нагадала Варе питерская гадалка про молодого барина – Антона Сергеевича.
Долгожданные письма, приходившие в Городище из Петрограда от Сергея Васильевича, сообщали Татьяне Петровне о житье-бытье мужа и о новостях от старшего сына, писавшего о нескольких штурмах крепости Осовец, находившейся в осаде под непрерывной бомбардировкой немцев вот уже несколько месяцев. В те февральские дни 1915 года крепость Осовец особенно часто попадала в военные газетные сводки и была примером того, как русские крепости умеют отражать артиллерийские обстрелы противника.
А дело было так. С сентября 1914 года специально созданный Блокадно-штурмовой корпус 8-й Германской армии долгие месяцы топтался на месте. Затем пришла зима, и наступили лютые крещенские морозы, не вызывавшие у немцев большого энтузиазма идти на штурм ненавистного Осовца. Они стали готовить сразу две – артиллерийскую и воздушную – атаки. Для этого дополнительно под Осовец были доставлены ещё шестнадцать австрийских осадных гаубиц «Шкода» калибром триста пять миллиметров. К ним в придачу кайзер Вильгельм распорядился доставить секретное оружие Германии – четыре сверхтяжелых пушки под названием «Большие Берты» или «Толстушки Берты» – новейшие осадные орудия 420-миллимитрового калибра, выпускавшиеся на концерне Альфреда Круппа и названные в честь его внучки и наследницы Берты Крупп, девушки с пышными формами. Батарею тяжелых орудий противник установил на расстоянии десяти километров от крепости Осовец, понимая, что более легкие крепостные пушки будут неспособны её достать своим огнем.
Преимущество противника в воздухе было безусловным. Но прежде чем начать артиллерийский обстрел тяжелыми бетонобойными гаубицами и бомбёжку крепости с аэропланов, посовещавшись, немецкие военачальники решили провести переговоры с упрямыми защитниками Осовца. В конце января к крепости пришел парламентёр с белым флагом и предложил коменданту крепости, генерал-лейтенанту Николаю Александровичу Бржозовскому, и начальнику штаба обороны, Михаилу Степановичу Свечникову, полмиллиона имперских марок за сдачу фортов, объяснив, что это отнюдь не подкуп, это подсчитанная с немецкой точностью сумма, которая будет потрачена на взятие крепости. Лучше сдать ее и сохранить людей и снаряды, все равно Осовец будет взят максимум через двое суток.
Начальник штаба обороны ответил парламентёру:
– Предлагаю вам остаться со мной. Если через сорок восемь часов крепость выстоит, то я вас повешу. Если же крепость падет, будьте добры, повесьте меня, а денег не возьмем!
Легендарная цитадель выстояла не сорок восемь часов, а оборонялась ещё сто девяносто дней! Комендант крепости Николай Бржозовский, высочайше награжденный Николаем II Георгиевским крестом четвертой степени и отвечавший за работу артиллерийских расчетов, был талантливым стратегом и тактиком. Проанализировав характеристики «Больших Берт», он нашёл их самое уязвимое место. Как и все толстушки, «Берты» были крайне медлительными, делая всего один выстрел за восемь минут. Кроме устаревших ста пятидесяти пяти миллиметровых пушек, выстрелы из которых не доставали позицию тяжелых немецких гаубиц, в крепости было ещё два резервных уникальных морских орудия, о которых не знал противник, – пушки Канэ. Они производились на Обуховском заводе, имели калибр сто пятьдесят два миллиметра, вес снарядов чуть больше сорока килограммов. Но безусловным преимуществом этой береговой морской артиллерии была скорострельность: десять выстрелов в минуту. И дальнобойность! Снаряды могли поражать цель на расстоянии двенадцати километров. Во время февральского штурма крепости Осовец артиллерийская дуэль, показавшая мастерство и эффективность российской военной школы, состоялась между двумя «Канэ», поставленными на удобные и выверенные позиции, и батареей тяжелых гаубиц: четырьмя «Бертами» и шестнадцатью «Шкодами» калибром триста пять миллиметров. Результатом этой перестрелки стало уничтожение прямым попаданием шести «Шкод», двух «Больших Берт» и значительное повреждение всей батареи тяжелых орудий противника. Беспрецедентно успешная артиллерийская дуэль русских, ставшая возможной благодаря сведениям, переданным наблюдателями с крепостных аэростатов, в течение кровопролитного боя корректировавших огонь, деморализовала противника, вынужденного вывезти супертяжелую артиллерию на безопасное расстояние. Обстрелы Осовца крупными снарядами прекратились вообще. То был единственный случай в истории Великой войны, когда столь широко разрекламированное в мире секретное сверхоружие немцев, весом сорок две тонны каждое и оставлявшее воронки диаметром более десяти метров и глубиной более четырех метров от взрывов своих снарядов, было подбито, успев сделать лишь несколько выстрелов.
Но остальная немецкая артиллерия, расположенная ближе к стенам цитадели, с ещё большей яростью и силой обрушилась на защитников крепости. В крепости бушевали пожары, но укрепления её выстояли. Против гарнизона были применены все новейшие оружейные достижения, в том числе авиация. На каждого защитника пришлось по несколько тысяч артиллерийских снарядов, бомб и гранат, сброшенных с аэропланов. Немцы бомбили и обстреливали крепость день и ночь. Месяц за месяцем. Русские получили приказ стоять насмерть, до последнего бойца, среди урагана огня и железа. Горела земля, горели даже болота. Ряды защитников крепости таяли, но Осовец продолжал удерживать оборону. На предложения врагов о сдаче следовал один и тот же ответ: «Русские не сдаются!»
Как писал домой Антон: «…гарнизон скоро привык к реву и взрывам снарядов. Свободные от боевых дежурств и изрядно уставшие, солдаты и офицеры крепостного гарнизона теперь спокойно засыпают под гул артиллерийской канонады противника. Защитникам цитадели даже удалось подбить две огромные пушки, которые назывались „Большими Бертами“ и выпускали из своих шестиметровых стволов снаряды весом с тонну…»
Эти послания поручика Батицкого, приходившие с опозданием в несколько недель, а порой и месяцев, лишь ещё больше подтверждали надвигающиеся события, о которых Варварушку заранее предупредила гадалка. Девушке оставалось дождаться самого страшного и ещё… самого, самого заветного.
* * *
Бессонные ночи совершенно измучили профессора Батицкого. Занятый наукой и преподаванием в течение дня, он с тоской и неизменным страхом ожидал наступления вечера и ночи. Противоречивые газетные новости с фронтов вызывали на душе пожилого отца ещё большую тревогу. Письма от старшего сына, приходившие крайне редко и в мирное время, теперь воспринимались Сергеем Васильевичем как подарок Судьбы, о перипетиях которой профессор рассуждал всё чаще и чаще, иногда ловя себя на том, что некоторые мысли произносит вслух. «Видимо, это от одиночества!» – думал он, но звать жену в Петроград не спешил. Татьяна Петровна, уехав в пензенское имение Городище с младшим сыном ещё в ноябре прошлого года, за всё время лишь пару раз сумела прислать весточки с новостями о состоянии здоровья Николя. Он поправлялся.
«Значит, Судьба бывает и милостивой… Значит, есть смысл в человеческих надеждах на лучшее, есть смысл в наших молитвах!» – от таких логических выводов сердце профессора забилось от радости и предчувствия обновления. Батицкому захотелось посетить места, где они, казалось, совсем недавно бывали вместе со всей семьёй, а ведь пролетело уже несколько лет. В выходные он твердо решил выехать из Петрограда в Петергоф, чтобы погостить у старого университетского приятеля, проживавшего безвылазно в усадьбе Знаменка. Здесь, видимо, от вольного свежего ветра и чистого весеннего воздуха, что наполняли его комнату через распахнутое настежь окно, душа профессора ожила. Как и в старые добрые времена, он вновь проснулся ни свет, ни заря и с удовольствием начал совершать свой прогулочный моцион по живописным окрестностям. Впереди его ждали знаменитые царские конюшни, построенные ещё в середине девятнадцатого века. Там Сергей Васильевич навещал своего любимца – красивого коня редкой ахалтекинской породы по кличке Гордый. Радость общения с лошадьми Батицкий ставил на один уровень с радостью от занятий математической наукой. Профессор был глубоко убежден в превосходстве и первенстве математики над всеми науками и лошадей – над всеми животными. «Математика и кони – вот божественные чудеса, созданные для абсолютного восхищения и почитания человеком!» – часто говорил он.
Знаменский конюшенный корпус был рассчитан на сто лошадей. Постройка в стиле необарокко, возведенная под руководством известного архитектора Гаральда Андреевича Боссе, своими башенками вокруг каре, мраморными монументальными колоннами, высокими круглыми сводами, обилием ажурной лепнины напоминала дворец, украшенный огромными коваными выездными воротами. По размерам конюшни были даже больше стоявшего поодаль царского дворца. Включали в себя манеж, кузницы, лазарет, а в угловых башнях – жилые помещения для слуг. Рядом, на краю парка, отдельно стояли два дома для садовников, кухонный корпус и дом смотрителя. Обходя царскую резиденцию и усадьбу, любуясь её роскошными видами и пейзажем, Батицкий почувствовал, что наконец-то тяжелый камень упал с его души, и задышал полной грудью, как в молодости. Погода была отличная и соответствовала замечательному настроению Сергея Васильевича.
…Многие состоятельные страстные почитатели лошадей из дворянского круга, как и Батицкий, до войны, в былые годы, часто наведывались в Знаменку, где третий сын императора Николая I, Великий князь Николай Николаевич, увлеченный своей военной службой в должности инспектора кавалерии, основал Клуб любителей коневодства. В знаменитых Знаменских царских конюшнях содержались наиболее ценные в Российской империи породы лошадей. А точнее, здесь были собраны лучшие породы со всего мира. Велась научная и селекционная работа, писались и защищались диссертации по племенному коневодству. Тут же регулярно проводились торжественные и богатые конные выставки, и международные соревнования.
Сергей Васильевич Батицкий, со своей стороны, буквально боготворил коней, заслуженно считая их самыми гармоничными, совершенными, самыми преданными, элегантными и чистоплотными животными. Поэтому ему так хотелось делиться этой своей любовью к лошадям с родными и близкими людьми, которыми являлись члены его семьи. На протяжении многих лет, пока подрастали дети, Татьяна Петровна и Сергей Васильевич приезжали сюда, в Знаменку, где много гуляли по окрестностям усадьбы, представляющей собой роскошный дворцово-парковый ансамбль, украшенный беломраморными статуями и многочисленными фонтанами. В Петергофе Батицкие любовались цветами в оранжереях, где выращивали даже ананасы. Заходили в церковь Петра и Павла с часовней Иосифа Песнопевца… Каждая минута их жизни в усадьбе Знаменка была наполнена счастьем… А сколько радости детям и родителям доставляли занятия в царской Школе верховой езды!
Эти воспоминания вновь вызвали щемящее желание профессора поухаживать за своим любимым ахалтекинцем по кличке Гордый. И профессор ускорил шаг по направлению к конюшням…
Ахалтекинская порода лошадей восхищала Батицкого с детства. В родовом пензенском имении у покойного отца были добротные конюшни и богатый выезд, как говорится, доставшиеся ему в наследство от его отца. С тех пор прошло уж более сорока лет. Однако детская любовь профессора к лошадям переросла в зрелом возрасте буквально в страсть к этим преданным животным и была в эти психологически трудные месяцы одиночества и тревог единственной отдушиной для его сердца.
Во все времена семейной жизни в доме Батицких к этому увлечению Сергея Васильевича относились с большим уважением и благосклонностью. Старший сын Антон – жгучий брюнет с глазами василькового цвета, высокий, элегантный молодой человек, унаследовавший внешнюю красоту от матери и лёгкий флер задумчивости от отца, – перенял трепетную любовь к лошадям по мужской линии рода. В Знаменской конюшне возвращения поручика с фронта нетерпеливо ожидал любимец Тоши – Сапфир. Батицкие высоко ценили своих ахалтекинцев!
Сергей Васильевич улыбнулся, вспомнив, как его дед, отставной царский генерал от инфантерии Батицкий, рассказывал ему в детстве историю, похожую на сказку: «Пять тысяч лет тому назад в государстве Ахал-Теке, расположенном среди дивных горных хребтов и зеленых равнин, появился удивительный чудо-конь бело-розовой масти. И был он самым красивым, подтянутым и сильным среди всех кочевых скакунов. С той поры, желая продлить столь необыкновенную красоту и любоваться на неё бесконечно, жители Ахал-Теке приложили немало усилий, чтобы вывести новую чистокровную ахалтекинскую породу, и начали разводить этих драгоценных лошадей с зелеными и голубыми глазами и розоватым окрасом масти, который по-особенному светился в солнечных лучах. Спустя несколько веков увидала такого красавца испанская королева Изабелла. Она была потрясена грацией, умом и силой подаренного ей скакуна. И никогда не расставалась со своим верным любимцем. С той поры масть редких и удивительных лошадей кремового или бежево-розового окраса называют изабелловой, и эта порода считается самой дорогой и самой модной в Европе. А вот в царскую конюшню Российской империи изабелловые скакуны впервые попали благодаря Великому князю Николаю Николаевичу Романову в девятнадцатом веке…»
Сергей Васильевич с улыбкой вспоминал, как трижды, сначала Антону, затем Николя, ну а потом, конечно, Марусеньке рассказывал эту историю. И как трижды счастливо и понимающе улыбалась его дорогая супруга Татьяна Петровна. Погрузившись в эти счастливые воспоминания, размышляя о прошлом и настоящем, профессор и не заметил, как уже подошел к конюшне. О будущем он размышлять не желал. Известие от жены о чудесном выздоровлении Николеньки так сильно обрадовало и чуть удивило его, что упавший было духом Сергей Васильевич желал всем сердцем подольше сохранить своё нынешнее бодрое состояние и наступивший душевный покой.
Конюшня, освещенная утренними лучами небесного светила, выглядела нарочито торжественно. Слышались игривое ржание молодых жеребцов и стук их копыт по деревянным перегородкам. В воздухе стоял ни с чем не сравнимый аромат свежего сена. Проходя по закоулкам конюшни, Батицкий вспомнил о покойной дочери и её любимце – Серко, который был продан совсем недавно. Опустевшее его стойло навеяло на раненое отцовское сердце теперь уже светлую грусть по маленькой Марусеньке, ставшей небесным ангелом.
– Здравия желаю, Сергей Васильевич! – донесся прокуренный бас конюха Еремея из дальнего угла пустого стойла. – Никак в гости пожаловали? Ай, скучать изволили? – подходя к коновязи и вытирая соломой свои жилистые руки, спросил старый конюх.
– Здравствуй, Еремей Михалыч! Скучаю! Сил нет, как скучаю! Что делать, не ведаю. Как похоронил дочку и проводил семью в пензенское имение, спать перестал совсем. Работа не в радость… – сняв светлую летнюю шляпу и переложив её в правую руку, державшую трость, сказал Батицкий, высоко глядя в потолок, будто стараясь удержать слёзы…
– Не нужно грустить, Сергей Василич! Всему своё время и своё дело! Вот наподдадут немчуре наши солдатушки, вернётся молодой барин в орденах да золотых эполетах, сядет в седло к своему любимке – Сапфиру и поскачет галопом, как ветер северный неудержимый, по вольному полю к счастью своему молодецкому… Не тужите, ваше благородие! Скоро вернутся все! Я так чую! – облокотившись на погрызенную конями слегу, добавил добрый Еремей.
– Дал бы Бог! Уж очень тяжко одному! То полон дом детей был, смех, веселье, а теперь вот я, как бирюк одинокий и неприкаянный.
– А что, Тимофей Иваныч жив-здоров ли?
– Жив пока что. Здоровьем не хвалится. Котёнка нянчит, питомец у него теперь есть усатый-полосатый. Вот и живём втроем: мы с Тимофеем Иванычем да кот-приблуда, – слегка повеселев, сказал профессор.
– Кот – это к добру! Раз приблудный, знать, домовой себе дружка позвал в дом для веселья и благополучия семейства вашего. Будь спокоен, барин, все наладится скоро.
– Добро! Ну, я пойду моего красавца Гордого проведаю, заждался меня, слышу его ржание. Как он?
– Да гоже покудова. Буянит порой изрядно. Но посля выезду остепеняица и благостничаит умеренно. Я вот ещё сказать хотел… Поговаривают, будто коней забрать на фронт могут. Можа, поспрошали бы кого? А то придут и уведут коней. Што тогда делать, как быть? Я-то, вишь, в таком случае не знаю, как поступать…
– Коли придут забирать, говори, что без моего решения не можешь коней отдавать, есть у них хозяин. А если уж силой забирать станут, бог с ними, не упрямствуй, отдай. Времена наступают все страшнее и непонятнее. Что завтра будет, никто не ведает. Казне деньги нужны, царю – поддержка, войскам – хорошие кони и орудия. Жизнь такая настала, – сокрушенно добавил Батицкий, доставая из коробки пару комочков сахара для своего любимца.
– Будем Господа просить, молиться, что еще нам таперь остаётся? Сколько войн было, русского воина поперек не перехватишь, на спину себе не взвалишь! Он винтом будет виться, а исход найдёт!
На улице тем временем потемнело, надвигалась гроза. Профессор, дотронувшись в знак уважения к старику-конюху ручкой трости до края шляпы, прикрывавшей его высокий лоб с глубокой залысиной, подал прощальный знак и, завершив беседу, бодрой походкой направился к дальнему стойлу, где в нетерпении, переминаясь с ноги на ногу, танцевал Гордый, красавец ахалтекинской породы.
Конь словно наперед чувствовал приезд своего старого друга. Изогнув тонкую жилистую шею, Гордый усердно копал настил передним копытом, нервно ходя боками, метался из угла в угол по просторному стойлу конюшни, хватая крепкими желтыми зубами то сено, то слегу, то грыз дерево неистово и нетерпеливо.
– Ну, здравствуй, брат! Вот и я… Ждал?! Ты ж мой красавец! – гладя благородную и изящную шею коня и угощая его сахарком, ласково похлопывая по правому ганашу (верхней части щеки, ближе к затылку), ворковал Батицкий.
Конь, довольный вниманием и чувствуя искреннюю любовь хозяина, хрумкал комочек белого сахара, сверкая черными глазами.
– Вот стоишь ты тут и думаешь, наверное, что редко прихожу к тебе, забыл, разлюбил. Нет, мой исполин, ты навсегда в моём сердце! Время сейчас непонятное, переменчивое, военное… Да и сдавать я стал по здоровью! Недавно совсем плохо было. Голову давит, а как кровь носом сойдёт – полегче становится. Ну, что обо мне говорить, шестой десяток лет по земле хожу, голову свою цифирью загружаю, а покоя в душе из-за детей не знаю. – Сергей Васильевич уткнулся лбом в грудь своего верного друга и замолчал.
– Ваш бродь, так, можа, прокатиться изволите? Я зараз упряжь накину, голени только обмотаю ему для лёгкого ходу, – растроганно проговорил Еремей, украдкой наблюдавший за Батицким. Как чувствовал, что надо б за ним приглядеть. Как говорится, по-стариковски предвидел и такое.
– А и давай, брат, чего хандрить? Моложе и крепче уж не стать, надо каждой минуте радоваться, – неожиданно бодро ответил профессор, молодцевато швырнув в угол свою трость и размашисто снимая белый сюртук.
До позднего вечера, до самой грозы и ливня катался Батицкий по окрестностям усадьбы на своем коне, то пришпоривая его, а то вдруг останавливал в зелёных лугах, ласково поглаживая гибкую шею своего любимца, и спокойно рассказывал ему о своей жизни. Конь слушал и, казалось, понимал каждое слово своего друга.
Завершив прогулку и остановившись у раскидистого мощного дуба возле конюшни, профессор передал Гордого в надежные руки конюха Еремея, заботливо вынесшего барину его трость и белый пиджак. На прощание Сергей Васильевич не удержался от нахлынувших теплых чувств и крепко прижался лбом к щеке коня. В этот момент прогремел гром, на небе сверкнула молния, озарив окрестности синим электрическим светом. Батицкий внимательно посмотрел в сторону горизонта, словно пытаясь узнать наперёд, что ждёт его и его близких в отдаленном будущем?
Разразившийся вскоре шумный майский ливень за несколько минут, как по волшебству, преобразил всё вокруг, изобильно напоив и омыв растения и освежив воздух. Смыло этим тёплым дождём и все следы на дорогах и тропинках, превратив землю в чистую новую страницу из Книги жизни, которую усердно ткали задумчивые мифические мойры – богини человеческой судьбы, трудолюбивые дочери греческих богов Зевса и Фемиды.
* * *
Тем временем в крепости Осовец полным ходом шла рекогносцировка – визуальное изучение противника и его расположения на местности. Разведка, вернувшись обратно и взяв «языка», сообщила важную информацию о новых передвижениях и смене расположения немецких войск и артиллерии противника, передвинувшегося ближе к крепости. Допрос пленного дал немало оперативной информации о новом выборе мест для размещения пунктов управления, а также о подготовке немцев к возможной газовой атаке. Данные наблюдений и сведения разведчиков позволили защитникам Осовца внести уточнения на военной карте. Командование крепости во главе с комендантом, генерал-лейтенантом Бржозовским, отвечающим за действия крепостной артиллерии, узнав, где находится огневая позиция немцев, скорректировало не только прицельный огонь крепостных орудий, но и наметило план вылазки, решив вернуть врага на его старые позиции. Подготовка плана дерзкой операции проводилась лично начальником штаба обороны крепости Михаилом Степановичем Свечниковым, потомственным дворянином, человеком высокообразованным, дотошным и мудрым. Во всех подготовительных мероприятиях, да и в самой рекогносцировке участвовали командиры всех крепостных боевых соединений и подразделений, находящихся на территории крепости. Бойцы 304-го Новгород-Северского пехотного полка и 226-го Землянского пехотного полка должны были совершить скрытный десантный рывок к немецким позициям, навести там панику и быстро вернуться обратно под стены Осовца при поддержке скоординированных ударов артиллерии. Перед выходом на операцию были четко и беспристрастно определены цели и основные задачи, состав рекогносцировочных групп, маршруты и средства передвижения, пункты остановок для работы, основные вопросы, решаемые на каждом пункте, и выделяемое для этого время. Свечников понимал, как никто другой, щепетильность и уязвимость положения защитников крепости, обстоятельства и ситуацию в целом на Западном фронте.



