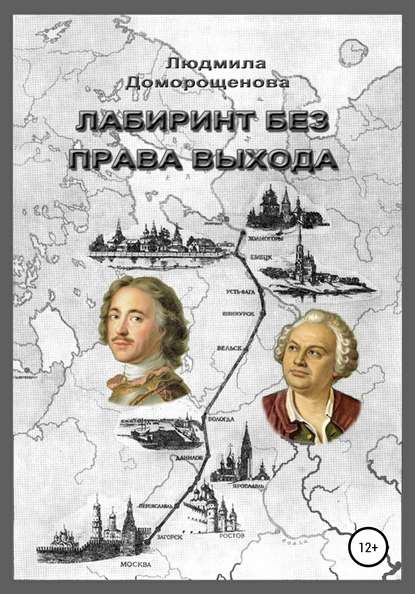 Полная версия
Полная версияЛабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова
То есть нужно было изучать океан, фиксировать физические и биологические параметры его составляющих. И такая работа староверами-мореходами проводилась. Выгорецкий большак Андрей Денисов, в поздравлении жившему и работавшему в пустыне судостроителю Бенедикту, говорил: «Полунощное море, от зачала мира безвестное и человеку непостижное, отцев наших отцы мужественно постигают и мрачность леденовидных стран светло изъясняют. Чтобы то многоснискательное морское научное и многоиспытное умение не безпамятно явилось, оное сами те мореходцы художно в чертеж полагают и сказательным писанием укрепляют».
Это он о том, что прибрежные воды Северного Ледовитого океана, ранее неизвестного и недоступного человеку, деды и отцы всех поколений мореходцев мужественно осваивали, изучали и многое могли уже объяснить в увиденном там. А чтобы не забылись их опыт и наука, они наносили очертания вновь открытых берегов, островов и архипелагов на самодельные карты, описывали их в лоциях собственного сочинения, а также дневниках и отчётах о плаваниях. Староверы собирали в своей уникальной библиотеке не только научные книги и религиозные рукописи, но и лоции поморские с такими описаниями, а отправляя суда на промысел, давали своим мореходцам задания продолжать эти исследования отцов и дедов.
Одним из тех, кто с юных лет во время плаваний в высоких широтах вёл по заданию большака дневник, фиксируя в нём наблюдения надо льдами, морскими течениями, господствующими ветрами, полярными сияниями, температурой воды и воздуха, местами расположения лежбищ морских зверей, направлениями полёта птиц, был, как установлено, и Амос Корнилов. Он измерял лотом толщину морских льдов и айсбергов – это были первые в истории измерения подобного рода; обратил внимание и впервые подробно описал явление так называемого ледового отблеска – отражения на облаках ледовых полей, находящихся за горизонтом.
В 1748 году об уникальных дневниках Корнилова стало известно архангелогородскому губернатору Степану Алексеевичу Юрьеву, по распоряжению которого мореход был вызван в губернскую коммерц-контору. Здесь в это время началось изучение истории освоения Шпицбергена на предмет возможности коммерческого использования «ничейного» тогда архипелага. Работа эта проводилась в пользу графа Петра Ивановича Шувалова, которому императрица Елизавета Петровна в тот год пожаловала на двадцать лет «звериный промысел в Ледовитом океане», известный ещё со времён Ивана Грозного. Корнилов сообщил коммерц-конторе подробные сведения об этой заполярной земле; представил данные о работающих в Арктике судах, снаряжении и питании промысловиков; поделился наблюдениями за природой, погодными условиями.
Участвовал ли в подобных наблюдениях, делал ли собственные записи Михайло Ломоносов или пользовался позднее записями дневников друга юности Амоса Кондратьевича? Известно, что мореход бывал у учёного в гостях по его приглашению. Ведь Ломоносов с первых лет работы в Академии, а особенно в середине 1750-х, показал как большой интерес к освоению арктического региона, так и обширные знания в этом вопросе, для чего явно недостаточно детских впечатлений. Работая в последующие годы над подбором доказательств в пользу возможности северо-восточного прохода из Европы в Тихий океан, учёный не только использовал факты, собранные коллегой по Академии наук Миллером, но и обосновал их целым рядом соображений, построенных на мореходном опыте поморов.
В биографии Корнилова есть очень интересный факт. В 1749 году «Торговая графа П.И. Шувалова контора сального беломорского промысла», получившая монополию на зверобойные промыслы в Поморье, наняла его для плаванья к Шпицбергену. Во время шторма судно Амоса прибило к острову Эдж (русское название – Малый Берун). Здесь Корнилов обнаружил зимовавших уже седьмой год подряд зверобоев с погибшего судна мезенского купца Е. Окладникова. После недолгих переговоров Амос Кондратьевич, планировавший провести зимовку на Шпицбергене, согласился прервать договор с сальной конторой и доставить вконец обессиленных груманланов в Архангельск, получив в качестве материальной компенсации десятки пудов оленины и множество оленьих и песцовых шкур из добытых зимовщиками на острове за шесть лет. История спасения поморских мореходов сразу стала широко известна на Русском Севере. А граф Шувалов, узнав об отважных поморах, пригласил их в Петербург, чтобы услышать подробности от них лично. В следующем, 1750-м году мезенцы побывали у него в гостях и ответили на все вопросы.
При этом разговоре присутствовал учитель сыновей Шувалова – историк, в недавнем прошлом экстраординарный член Петербургской академии наук француз Ле Руа. Он в подробностях записал воспоминания мореходцев об их жизни на необитаемом полярном острове, но обстоятельства позволили ему вернуться к этой истории только через несколько лет. Рассказ Ле Руа «Приключения четырёх российских матросов к острову Шпицбергену бурей принесённых, где они шесть лет и три месяца прожили» был написан на немецком языке и впервые опубликован в 1760 году. Затем его перевели на все основные европейские языки, неоднократно переиздавали. Позднее появились многочисленные переделки его сочинения, в том числе известная повесть Н.К. Лебедева «Архангельские Робинзоны»70.
Так отважные мезенские промышленники, а с ними и их спаситель, получили, можно сказать, мировую известность. Народная память на века сохранила имя Амоса Корнилова наравне с лучшими поморскими кормщиками – Саввой Ложкиным и Маркелом Ушаковым, тоже, кстати, старообрядцами, каковых было немало среди северных мореходов.
В современной литературе имя Амоса Кондратьевича Корнилова часто упоминают в связи с Выговской пустынью; порой сообщается, что за свою подвижническую жизнь он был избран её обитателями большаком. Но это ошибка: такой фамилии среди киновиархов этого общинножительства нет. И в то же время сохранились неясные предания о том, что на острове Эдж в какой-то период действовал старообрядческий скит. Его большаком, возможно, и был полярный мореходец Амос Корнилов. Случай с мезенскими промысловиками мог подсказать ему, что человек в принципе способен жить на отдалённых полярных островах, несмотря на неблагоприятные условия.
Это предположение подтверждает то, что на Эдже в 1827 году были обнаружены две, ныне утраченные, избы. Большая (10 метров длины и 5 метров ширины) имела над входом надпись «сия изба староверска»; поблизости были установлены кресты с датами «1731» и «1809». О том же заставляют задуматься и недавние находки на Шпицбергене детских и женских останков. При этом известно, утверждает современный исследователь истории русской Арктики О. Овсянников, что ни детей, ни женщин в арктических промысловых артелях русских поморов никогда не было.
Гипотеза о существовании на Шпицбергене в некий исторический период русского «монастыря» не раз выдвигалась и норвежскими учёными.
На Курострове
Кто кого оставил?
Итак, мы попытались найти (и, на мой взгляд, нашли) весомые аргументы в пользу версии о многолетнем пребывании будущего учёного в центре поморского староверия на Выгу. Но как же юный Михайло Ломоносов туда попал? Сам подросток добраться до монастыря, расположенного не просто за сотни километров от дома, а «за морями, за дремучими лесами», никак не мог. Без разрешения отца его не взяли бы с собой никакие паломники. Отец же своего единственного сына вряд ли бы отдал в отдалённый староверческий монастырь без всякой на то причины. Значит, что-то должно было случиться, раз он решился на такой шаг? Ответ на этот вопрос надо искать только на Курострове, перебрав, что называется, вручную все известные факты из жизни будущего учёного в его родном краю.
Об отце М.В. Ломоносова мы уже много здесь говорили. О матери же, как было упомянуто, неизвестно практически ничего. Была ли она грамотной, какие песни пела сыну, чего желала ему перед сном? По какой причине больше не рожала? Был ли у них с Василием свой угол в доме Луки, куда она поставила сундук с приданым, или её мать-вдова собрала приданого только на узелок?
Просила ли Елена мужа о собственном жилье? Ведь когда она перешагнула порог дома, из которого её вынесут на погост через 10 лет, здесь уже жили четыре женщины: старая жена хозяина Матрёна, молодая вдова его сына Пелагея, а также непонятно чьи дочери-подростки Мария и Татьяна. Чем они встретили её, как она потом ужилась с ними на женской половине дома, сказал ли им «цыц!» Лука или «спустил всех собак» на новую невестку? Отчего, наконец, она умерла в столь молодом возрасте? Ничего мы об этом не знаем и уже, видимо, никогда не узнаем. А то немногое, что «известно», вызывает только новые вопросы.
Сам Михаил Васильевич не оставил (или нам не оставили после его смерти) никаких воспоминаний о своём детстве, семье, матери. Слово «мать» упоминается им лишь однажды – в поэтическом переводе молитвы Давида из псалтыри (псалом 26, строфа 10):
Меня оставил мой отец
И мать ещё в младенстве;
Но восприял меня Творец
И дал жить в благоденстве.
Строчки эти, в контексте биографии Ломоносова, воспринимаются как благодарность высшим силам за то, что после смерти родителей он был «воспринят» и у него всё сложилось, в общем-то, благополучно. В оригинале же молитвы Давида, родственники которого не умерли, а просто избегали сношений с ним из-за преследований царём Израиля Саулом, заложен иной смысл. Там автор просит высшие силы помочь ему: «…не оставь меня, Боже, Спаситель мой! ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня».
При этом (обратим внимание!) Давид говорит о том, что мать и отец оставилИ его. У Ломоносова же действие передаётся в единственном числе: оставил отец. Но как отец мог оставить его в младенстве, если умер, когда сыну было уже 30 лет? Да и в отношении матери требуются уточнения. Младенство (а не современное младенчество!) – возраст от зачатия до семи лет – особый, безгрешный, по православию, период в жизни человека. Елена же умерла, когда сыну было лет девять-десять.
Стихотворение написано через два года после вероятной смерти отца, что позволяет некоторым исследователям считать, что в нём автор просто вспоминает родителей. Но промежуток времени между смертью отца и смертью матери слишком велик, чтобы соединять эти два печальных события союзом и. Отец умер недавно, а мать – 20 лет назад (видите, так и напрашивается союз а!). Но даже если скорбь по матери не утихла с годами и была равна скорби по отцу, то действие всё равно должно быть передано во множественном числе: «Меня оставилИ отец и мать».
Кроме того, местоимение «мой» при уже имеющемся местоимении «меня» (меня оставил мой отец) выглядит здесь или излишним, или уточняющим, говорящим о том, что есть ещё какой-то «не мой» отец. Но тогда стихотворение приобретает совсем иной смысл: мой отец оставил меня и мою мать, когда она была ещё только беременна мною или когда мне ещё не исполнилось семи лет. И это свидетельство самого Михаила Васильевича.
Новоманерный гукор
Ни один официальный биограф Ломоносова до сих пор не предложил разумную версию появления у его отца собственного «новоманерного» двухмачтового судна с корабельной оснасткой грузоподъёмностью почти 90 тонн, хотя многие признают, что сумма, необходимая для постройки такого «кораблика», нереальна для крестьянина, ведущего своё хозяйство в одиночку. И дело не только в финансах, а и в целесообразности этих трат.
Зачем Василию Ломоносову потребовался гукор, когда у него была, как утверждают архангельские историки, сойма, которую он передал позднее Михайловскому монастырю в Архангельске? Эта якобы ветхая посудина ещё несколько лет потом использовалась монастырём, в том числе и для промысла на Мурмане. Почему именно он, как сообщает академическая биография М.В. Ломоносова, «первый из жителей сего края состроил и по-европейски оснастил на реке Двине, под своим селением, галиот и прозвал его „Чайкою”»? Никто не строил, а он построил.
Строительству «новоманерных» судов на западноевропейский манер в целях модернизации флота положил начало указ Петра I от 28 декабря 1715 года. Архангельскому вице-губернатору Курбатову им было высочайше предписано: «По получении сего указу объявите всем промышленникам, которые ходят на море для промыслов на своих лодьях и кочах, дабы они вместо тех судов делали морские суды галиоты, гукары, каты, флейты, кто из них какие хочет, и для того (пока они новыми морскими судами исправятся) даётся им сроку на старых ходить только два года». Однако в 1719 году государь разрешил оставить имевшиеся карбасы, соймы, кочи, но строить новые суда этого типа впредь запретил, пригрозив ссылкой на каторгу. Особым актом было запрещено также отправлять из Архангельска грузы на судах «прежнего дела». Затем был принят ещё целый ряд указов на эту тему, которые встречали активное сопротивление мореходов, не сдававшихся и продолжавших плавать на своих «староманерных» судах.
О причинах этого архангельский мореходец Фёдор Вешняков поведал в начале 20 века уже упоминавшемуся нами писателю Борису Шергину, а тот рассказал нам в своей книге «Поморские были и сказания»: «Идущие к Архангельскому Городу иноземные суда весною уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Еконской губе до совершенного освобождения Гирла от льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец. Но грубой кольской лодье и нестудированной раньшине некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но, когда то за обычай, то и весьма сносно. Чаятельно тот новоманерный вид судов определён на воинской поход и превосходителен в морских баталиях. Но выстройка промышленного судна, в рассуждении шкелета или рёбер, хребтины или киля, образована натурой моря ледовитого и сродством с берегом отмелым»71.
О чём говорит мореход Вешняков? О том, что иностранным судам, взятым Петром за образец кораблестроения, для безопасности приходится весной по два месяца без дела стоять в становище Еконга в восточной части Мурманского берега, ждать, когда горло Белого моря ото льда очистится. Но поморам на это нет времени: у них лодьи и раньшины, хоть и староманерны, но приспособлены для плаванья во льдах, а сами рыбопромышленники к такому опасному плаванью вполне привычны. Возможно, новоманерные суда хороши для военного дела, но поморские, построенные для промысла, конструктивно создавались с учётом особенностей Ледовитого океана и прибрежных вод.
Указы о новоманерном кораблестроении вынуждены были нарушать не только частные судовладельцы, но и те мореходы, кто совершал плаванье на Севере по государственной нужде. Руководители знаменитой Великой северной экспедиции (1733-43), понимая, что гукоры и галиоты «не способны как для мелких вод, так и для льдов», использовали в экспедиционном плавании по морям Северного Ледовитого океана традиционные поморские кочи, шитые кузонемскими мастерами Фёдором и Тимофеем Кормакуловыми.
И позже в Поморье многие отказывались строить суда по новым чертежам, поскольку ни предписанные конструкции, ни размеры не соответствовали условиям прибрежного плавания и плавания во льдах. Так, в 1828 году, в ответ на очередной указ, поморы писали архангельскому губернатору, что их лодьи имеют самую удобную конструкцию для мореплавания и промыслов: «Мы ходим на этих судах на рыбный промысел на Мурман, в Норвегию для вымена рыбы, используем для частных перевозок в Норвегию и в города Архангельской губернии. На лодьях, выстроенных плоскодонными, в отличие от судов корабельной конструкции, всегда можно зайти в становище по мелководью и спастись от гибели. Кроме того, на новоманерных судах невозможен проход на рыбные промыслы по мелководным рекам и новые суда требуют перегрузки грузов на лодки. Лодьи же в становища заходят на приливе и остаются на суше при отливе, т.к. плоскодонны. Во время штормов лодьи лучше держатся на якорях, а при попутном ветре идут быстрее, лодьи можно вытащить на лёд, они проще в конструкции, управлении, дешевле. Эти и многие другие хозяйственные выгоды от наших судов против новоманерных доставляют нам безбедное существование. Гибели людей никогда не случалось, так как жизнью и капиталами мы дорожим»72.
Итак, лодьи, по мнению поморов, во все времена признанно дешевле, безопаснее и конструкционно более подходят к местным условиям. Их легче и выгоднее эксплуатировать, ремонтировать, ставить на зимний отстой и т.д. Кроме того, лодейная оснастка несравненно дешевле корабельной, которая под силу лишь состоятельным промышленникам. Не случайно поморы игнорировали указы Петра о строительстве новоманерных судов, и на протяжении всего 18 – первой половины 19 века в большинстве районов Поморья преобладало «староманерное» судостроение.
И всё же Василий Дорофеевич, первым «из жителей сего края» (т.е. Курстрова), оплачивает из неизвестных источников строительство новоманерного гукора мастером Двинского уезда Паниловской волости крестьянином Трофимом Медведевым. Создаётся полное впечатление, что тот, кто ссудил (или от имени кого ссудили) крестьянину Ломоносову немалые деньги на это дело, поставил перед ним условие – чтобы судно было именно новоманерным! Оно было спущено на воду в 1727 году, значит, начато строительство в 1726-м, то есть деньги на него Василий Дорофеевич получил году в 1725-м.
На родине судов этого типа, в Голландии, гукоры первоначально строились как рыбачьи лодки. Позднее, в 16-17 веках, их размеры увеличились, и они использовались во многих странах Северной Европы как военные транспортные суда; иногда, для самообороны, на них устанавливали 8-10 небольших пушек. В гражданском флоте они служили для перевозки грузов.
В свидетельстве губернской канцелярии на право владения Василием Ломоносовым новоманерным судном сказано: «Гукор, именуемый „Святой Архангел Михаил”, в грузу имеет сорок пять ластов, длина по килю пятьдесят один фут, ширина семнадцать футов, глубина восемь футов, об одной мачте с кругом; длина грот-мачты сорок восемь футов, стень-мачта двадцать семь футов английских, знак на нём российский». То есть, если «перевести» с профессионального на обычный язык, длина судна – 15,5, ширина 5,2 метра, грузоподъёмность около 90 тонн, глубина трюма 2,5 метра. Грот-мачта высотой 14,3 метра имеет марсовую площадку (круг) и стеньгу (удлинение грот-мачты) высотой 8,2 метра.
В первом рейсе на этом судне, по таможенным данным, было совершено плавание в Кольский острог с продовольствием, на обратном пути доставлен спермацет (вещество, получаемое из жира некоторых китообразных). В следующем 1728 году судно совершило два рейса на мурманские рыбные промыслы. Очевидно, его шкипер, как и вся команда, был наёмный, поскольку сам хозяин нигде и никогда не упоминался в этой роли. Так, историк Севера М.И. Белов утверждал, что В.Д. Ломоносов в эти годы был матросом на судах Кольской китоловной компании барона Шафирова и летом 1728 года ходил на китоловном судне «Валфише» к берегам Шпицбергена в качестве гарпунёра. В это же время его гукор с наёмной командой работал, судя по таможенным документам, на промысле рыбы в губе Трящино, куда совершил два рейса. О том, что в плавание в эти годы брали хозяйского сына Михайлу, нет ни одного документального свидетельства.
В последующие годы гукор Ломоносова плавал «от города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Самояди и на реку Мезень», перевозя товары по побережью Белого моря и Северного Ледовитого океана. А потом он. пропал. Спустя почти полвека земляк Василия Дорофеевича В. Варфоломеев уклончиво писал, что отец Ломоносова «одно время (выделено мною. – Л.Д.) имел немалой величины гукор с корабельною оснасткою, всегда имел в том рыбном промысле счастье».
Это, видимо, надо понимать так, что сначала (до 1727 года) у него гукора не было; потом, какое-то время, он был, на нём работала наёмная команда; потом его опять не стало, несмотря на промысловую удачу. И случилось это, скорее всего, после возвращения Василия с промысла осенью 1740 года, то есть 13 лет спустя. Тогда, как известно из архивных документов ГААО, 60-летний старик вдруг, что называется, задурил: в одночасье продал землю, дом и всё, нажитое «кровавым потом», что он хотел передать сыну, когда тот закончит свою учёбу и вернётся домой. Такая тотальная распродажа могла произойти лишь в том случае, если Василию стало точно известно, что Михаил не собирается возвращаться на Куростров никогда и ни при каких обстоятельствах. Откуда он мог это узнать, если его сын находился «в бегах» уже почти десять лет, из которых половину провёл «за морем»?
Ответ очевиден: от земляков, встреченных Михайлой (судя по его известному письму-объяснению в Академию наук) летом 1740 года в Голландии. Он пишет, что «…нашёл здесь нескольких знакомых купцов из Архангельска, которые мне совершенно отсоветовали возвращаться в Петербург без приказания; они изобразили мне кучу опасностей и несчастий, и потому я опять должен был возвратиться в Германию».
Архангельск и сегодня – небольшой город, где (по крайней мере, в своих профессиональных нишах) все знают друг друга; что уж говорить о 18 веке! Те архангелогородские купцы не могли не знать отца Михаила – тоже судовладельца, не могли не сочувствовать его одинокой старости. Отговаривая парня от возвращения в Петербург, где с него, конечно же, строго спросят за самовольное оставление учёбы, они, наверняка, звали его с собой в Архангельск, к отцу, к привычным крестьянско-рыбацким занятиям, расспрашивали о дальнейших жизненных планах.
Прибыв в конце лета домой, купцы, безусловно, должны были рассказать вернувшемуся с промысла Василию о встрече с его сыном, который категорически отказался когда-либо возвращаться домой. И что оставалось делать одинокому старику? Для кого ему теперь стараться, ловить эту рыбу, продавать её, снова ждать весны, снова преодолевать трудный путь на промысел, чтобы в один из дней, наполненных этими трудами, отдать Богу свою грешную душу без покаяния?
А поскольку он был, как мы уже поняли, старообрядцем, то дальнейший путь у него мог быть только один – ликвидировать всё своё хозяйство и податься к единоверцам, так как приверженцы старой веры считали, что покаяние можно было приносить только перед своим наставником. Если же такого наставника рядом не было, если до него не хватало сил или возможности добраться, наиболее убеждённые староверы уходили перед смертью в лес, где строили специальные «хоромины» и умирали в полном одиночестве, зачастую уморив себя голодом. В таком случае ревнители древлеправославия приносили покаяние земле, кланяясь на все четыре стороны со словами: «Мать сыра земля, прости и прими! И ты, вольный свет-батюшка, прости, коли обидел…».
Кандидат исторических наук старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Т.И. Бабикова (Дронова) много лет отдавшая изучению обычаев северных староверов, пишет: «Вся философия жизни старовера сводилась и по-прежнему сводится к подготовке перехода из земной жизни в вечную… В возрасте 50-55 лет, с прекращением активной трудовой деятельности, начинается их постепенный переход в следующую возрастную группу „стариков”. Как правило, именно в этот период особенно важным становится осмысление прожитого отрезка жизни, которое знаменует изменение образа жизни. Согласно сложившимся мировоззренческим установкам, чтобы достойно встретить смерть, прежде всего необходимо было „очиститься от греховной жизни”».
Для старовера-насмертника (готовящегося к смерти) «очиститься» значит одно – спасти душу. Куда именно оставшийся без крыши над головой Василий Дорофеевич ушёл «спасаться», мы не знаем. Поскольку он продал свой дом поздно осенью, когда навигация на Белом море уже была закрыта, то, скорее всего, отправился пешком или с попутным обозом на реку Койда, в верховьях которой располагался достаточно богатый и крепкий (т.е. строго соблюдающий все установления) Ануфриевский староверческий скит. А в одну из следующих навигаций уплыл, думается, на Грумант на своём гукоре, переданном им заранее выговскому кормщику и другу сына Амосу Корнилову.
У Корнилова на Груманте, на острове Эдж, как мы говорили, был организован староверческий скит, большаком которого он являлся. Гукор и деньги, вырученные от продажи имущества, могли стать для Василия Дорофеевича «вступительным взносом» для приёма в скит, что было обычным явлением в то время. Судно В.Д. Ломоносова, скорее всего, пополнило промысловый флот Выговской пустыни. По крайней мере, известно, что Корнилов в 1740-х годах ходил на Шпицберген на гукоре, хотя ранее у него такого судна не было.
Скорее всего, именно здесь и окончил свой земной путь Василий Дорофеевич, очистившись от земных грехов в стерильной от мирской жизни обстановке полярного острова. Для любого старовера это был бы идеальный вариант ухода в вечную жизнь.



