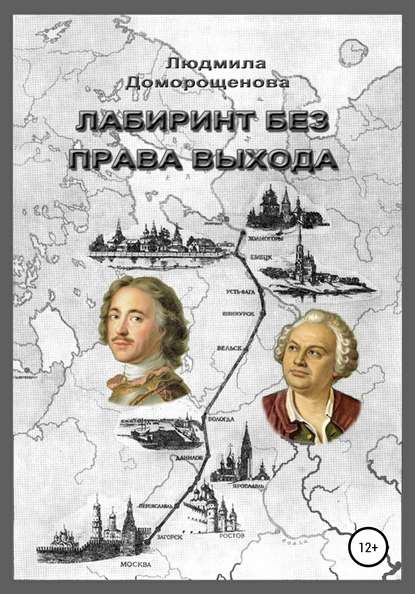 Полная версия
Полная версияЛабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова
Старообрядческие скиты всегда прятались в самых глухих местах Поморья. В фильме создание такого скита в четырёх километрах от Архиерейского дома и самосожжение раскольников, можно сказать, на глазах у архиепископа – домыслы авторов, которым, понятное дело, надо было хоть как-то объяснить зрителям, какие такие староверы «уловили» отрока Михайлу Ломоносова. Но на самом деле настоящее образование (а не просто грамотность) можно было получить не в ските, обитатели которого вели экстремальный образ жизни, и не в результате неких духовных бесед, а «стационарно». Такие условия на Русском Севере имелись, как мы уже выяснили, только в старообрядческом монастыре на Выгу, да ещё, возможно, на Печоре, но уже в меньшем объёме.
О возможном участии выговского киновиарха Андрея Денисова в судьбе Ломоносова и обучении юного Михайлы в Даниловском монастыре выдвигали предположения учёные-ломоносововеды Д.Д. Галанин в книге «М.В. Ломоносов как мировой гений русской культуры» (1916), Д.С. Бабкин в работе «Юношеские искания М.В. Ломоносова» (1947), Н.Ю. Бубнов – «Михаил Васильевич Ломоносов и старообрядчество» (1986) и другие исследователи, имеющие научные степени. Однако дальше гипотез и предположений дело не пошло: требуются весомые доказательства, а ещё бы лучше – признание самого Михаила Васильевича.
Но мог ли он в студенческие годы, а тем более во время работы в Академии наук, прямо, вслух или письменно, сказать, что учился у староверов, привычно обвиняемых всеми в тёмном невежестве? Могли ли его первые биографы в то время ожесточённой борьбы с расколом признать и публично представить сей факт, если и мы не можем этого сделать до сих пор? Не можем, потому что в большинстве своём относимся к староверам как к дремучим сектантам, несмотря на то, что ещё в 1905 году именным высочайшим указом «Об укреплении начал веротерпимости», данным Сенату, старообрядцы получили свободу вероисповедания и равные права с никонианами, в 1929 году Священный Синод специальным постановлением признал старые русские обряды «спасительными и равночестными», а в 1971 году Поместный Собор Русской православной церкви снял все хулы на старообрядцев и ещё раз подтвердил святость старых обрядов и старопечатных книг.
Не только в обыденном, но и научном сознании на староверии в России, похоже, всё ещё лежит табу. И пока мы сами (каждый для себя) не снимем его, странные мифы о влиянии беломорских ёлок-палок и ловли рыбы в высоких широтах на интеллектуальное развитие отдельно взятого индивида будут преобладать над здравым смыслом, как только мы возьмёмся говорить о феномене великого Ломоносова. Он велик не потому, что таким родился на краю света, в бедной хижине рыбаря, якобы свободного от рабства, а потому, что русские люди на краю света, в невыносимых, казалось бы, условиях, сохранили, развили и передали через него народу своей страны такой мощный факел знаний, что он и по сей день светит нам. А в том, что мы не понимаем, откуда этот свет, и думаем, что он из чужих стран, нет его вины. Это наша беда.
…Но это мы говорим о знаниях, а не о вере. С верой у Ломоносова было, кажется, ещё сложнее.
Стихи «на туесок»
Широко известное стихотворение «Гимн бороде», в котором Ломоносов высмеивает как православных попов, так и старообрядцев,– не единственное свидетельство неприятия им ситуации церковного раскола в принципе, нежелания встать на ту или другую сторону. Да, он, по нашей реконструкции, учился на раскольничьем Выгу, освоил здесь немало наук и искусств, развил свои способности и таланты, большинство которых в обычных крестьянских условиях, конечно же, пропали бы втуне. Но так ли уж он рвался к этим знаниям или вынужден был подчиниться воле отправившего его сюда отца и заведённому в пустыне распорядку? Думается, поначалу могло быть и так, и так; ведь учёба – большой труд, что бы ни говорили сторонники варианта спонтанного получения знаний будущим учёным.
Это, кстати, очень хорошо почувствовал на себе современник Ломоносова цесаревич Павел, который, считается, получил лучшее на то время образование. Он уже в детстве мог говорить на немецком, французском, английском языках, изучал историю, географию, читал Вольтера, Корнелия, Расина, хорошо знал Библию и закон Божий. Его начали учить грамоте с четырёх лет, а в десять лет он написал в одном из сочинений: «Правда, что приступ к наукам несколько труден и неприманчив. Но терпение и прилежание, употреблённое на преодоление первых трудностей, награждаются вскоре неизобразимым удовольствием и очевидною пользою. По собственному своему искусству сие я ведаю. Признаться должен, что при начале учений моих не без скуки мне было, но последуя доброхотным советам, преодолевал оную и вижу, что она ничто в рассуждении последующего за нею удовольствия».
Поначалу и Михайло мог так же скучать на уроках, мечтать о возвращении на родной Куростров и не особо ценить полученные на Выгу знания, поскольку ещё не знал их силу. А главное – он не был здесь свободен; образ жизни, который он вёл в пустыни, не был его выбором, а значит, скорее всего, раздражал, вызывал неприятие. Денисовы стали его учителями, но не стали близкими по духу людьми. Похоже, не одобряя в принципе действия официальной церкви в борьбе с расколом, он не мог принять и истовость, фанатизм старообрядцев, их неуступчивость, готовность идти на всё ради того, чтобы сохранить свою веру. И чем взрослее он становился, тем больше был внутренний разрыв между ним и его учителями. Тому есть подтверждение.
В 1733-34 году Ломоносов, ученик Московской духовной академии, находился, как мы уже говорили, в Киевской духовной академии, риторическая школа которой «по традиции держалась приёмов проповедничества, заимствованных у таких образцовых ораторов, как иезуиты». Здесь, в библиотеке или на одной из кафедр, он, полагаем, увидел знакомое по выговской учёбе произведение Андрея Денисова «Сотове медовии – словеса добра, сласть же их исцеление души» (Добрые слова – соты медовые, сладость их исцеляет душу).
Денисов, как говорят историки, создал своё сочинение то ли при поступлении инкогнито в Киевскую академию в 1708 году, то ли во время обучения здесь. Этот экспромт, поднявшийся до высот ораторского искусства иезуитов, поразил здешних преподавателей своим художественным совершенством, стал для учеников академии одним из образцов риторического произведения, благодаря чему дошёл и до наших дней. Его можно найти в Интернете и самому убедиться в верности оценки киевских риторов.
Вернувшись через два года из Киева в свою пустынь, Андрей включил «Сотове медовии…» в сборники выговских «слов» (речей) в качестве образца для обучения своих риторов, среди которых был, как мы предполагаем, и Михайло Ломоносов. Начинается это произведение, если перевести с языка начала 18 века, так: «Не все слова, которые говорят люди, добрыми бывают, не все премудрости мёдом помазаны, не все исцеление души творят; слова же мужей мудрых, просвещённых разумом светлости учения, те слова сладости исполнены, те скорбь неразумия исцеляют, те полынь делают сладкой…»
Возможно, уже тогда, отдавая должное художественному совершенству этого «слова», Михайло не был согласен с его глубинным поучающим смыслом. Ведь именно такими, сладкими и ласковыми, часто бывают лукавые, так называемые иезуитские речи, заманивающие и даже, как теперь говорят нейролингвисты, перепрограммирующие неофитов, что особенно важно для различных религиозных течений, вербующих себе сторонников. И чем проще, открытее, наивнее человек, тем легче «мужам мудрым, просвещённым разумом светлости» (а именно таковыми считают себя все проповедники, черпающие в этой уверенности свою силу), уловить его в сети слов и убеждений, то есть, как говорит Денисов, даже горькую полынь сделать сладкой.
Юный Ломоносов мог остро чувствовать это ещё и потому, что знал, сколь суровы, а порой и жестоки бывали руководители пустыни в своих требованиях к пустынножителям и как ласковы, приветливы – к паломникам, особенно к тем, кто приходил из мира в их общину со своим вкладом. Паломники – гости, а староверы-пустынножители существовали здесь в соответствии с уставом своего монастыря. Выговский же устав был строго аскетический, где одним из главнейших требований являлось послушание, «а противящихся и не покоряющихся – телесным наказанием наказовати». Практиковалось коленостояние; провинившихся били специальной плетью – шелепом, сажали на цепь; непокорных предлагалось также «в монастырь к наказанию отсылати и никому не попущати в том своём непокорстве пребывати. В монастырех обоих [мужском и женском] всем соборным, келарем, казначеем, городничим и надсмотрикам и сторожам всем крепко данные им службы отправляти, чтобы всё было по чину монастырскому».
Возможно, и самому Михайле, при его-то характере, доводилось познать силу этого устава и то, как крепко отправлялись службы по чину монастырскому, т.е. выполнялись задания киновиарха-большака по наказанию упорствующего. Недаром потом, в 1758 году, разрабатывая проект устава университетской гимназии, Михаил Васильевич, не отвергая мер взыскания, охотней и подробней говорил о поощрениях учеников, стремился всячески ограничить произвол гимназических наставников, требовал лишить их права применения крайних мер наказания.
Встретившись в Киевской академии с творчеством Денисова, Михайло, уже свободный как от старой веры, так и от самих её проповедников, откликнулся на денисовское «слово» такими явно лубочными строчками:
Услышали мухи Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Егда стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах! – плачут убоги, —
Меду полизали,
А сами пропали.
Стихотворение Ломоносова, помеченное 1734 годом (время его нахождения в Киеве), по смыслу – явный отклик на «Сотове медовии…». Денисов в своём экспромте убеждает, что слова просвещённых привлекают слушателей как мёд, и этим проповедники должны пользоваться. Ломоносов возражает, говоря о том, что простодушные люди могут попасться на сладкие речи проповедников вопреки своим истинным убеждениям, как мухи на медовую приманку.
Кроме того, в этом стихотворении мы впервые встречаемся с использованием им приёма амфиболии (двусмыслия). Духом здесь можно считать не только запах, но и, в тайном контексте, духовное слово. Если бы Ломоносов имел здесь в виду именно запах «мёда», то есть «сладкой» жизни, он бы и написал «учуяли». В данном случае он перевёл смысл стихотворения на другой уровень: услышали простаки сладкие речи духовных проповедников, поддались на них и пропали, так как уйти из затерянного среди лесов и болот староверческого монастыря или скита в одиночку было практически невозможно, особенно старикам, тем более уже внёсшим сюда свой вклад.
На утраченном оригинале этого стихотворения, говорят, была сделана чьей-то рукой лаконичная надпись на латинском языке – «Pulchre» («Прекрасно»). Считается, что это «рецензия» одного из учителей Ломоносова в Московской академии, хотя, мне кажется, – в Киевской, где были знакомы с пародируемым текстом. И действительно, это, на первый взгляд шуточное, произведение прекрасно. Оно наполнено глубокой мудростью и силой убеждения, которые не потеряли своего значения и поныне: бойтесь тех, кто обещает сделать вашу жизнь сладкой, кто знает, что именно для вас будет хорошо, кто говорит, что знает прямую и широкую дорогу к свету и счастью и готов повести вас к этой цели. Не будьте примитивной мухой, помните, что для мух запах тлена тоже приманчив. Не дайте себя обмануть, иначе пропадёте! Это мудрое стихотворение-предостережение великого человека каждому бы школьнику наизусть выучить, чтобы никогда не попадаться на «медовые духи» разных гуру, политагитаторов, интернет-собеседников и т.д., а учиться жить своим умом.
Ломоносов не случайно выбрал лубочный стиль выражения выношенной им позиции: лубок своим появлением в русской народной культуре обязан Выго-Лексинскому общинножительству. Подобные произведения старообрядцев (рисованные картинки и пояснительные подписи к ним, а также отдельные тексты назидательного характера) были предназначены для единомышленников и вначале являлись искусством «потаённым». Язык символов и иносказаний был понятен только тем, кто придерживался старой веры или хотя бы был знаком с её основными постулатами. Они сразу разумели, что имел в виду автор.
Ломоносовский лубок имеет название «Стихи на туесок», что могло идти только от автора. Что означало такое название? Туески – берестяные ведёрки были в то время на Севере в каждом доме. В них хранили молоко, масло, квас, солёные грибы, ягоды и другие продукты. Такие туески часто раскрашивались. При этом рисунки (картинки с коротким и броским, легко запоминающимся текстом), выполненные в технике лубка, были не только «украшательные», но и просветительные, обличительные. Один из самых распространённых сюжетов такого лубка – «Как мыши кота хоронили»; он пародирует похороны ненавистного большинству старообрядцев царя Петра I (что, кстати, тоже должно было очень не нравиться Михайле).
Можно предположить, что Ломоносов, исходя из понимания «идеологического влияния» лубочных картинок на простодушных крестьян, полагал таким образом растиражировать своё произведение, направленное против «липкого», по его мнению, сладкоречия старообрядцев. То есть так и надо понимать название – стихи к картинкам на крестьянские туески, предупреждающие об опасности прельщения раскольниками. А поскольку особо актуальны они были там, где раскол продолжал собирать жатву, то и передал Михайло свою «антиагитку» кому-то из земляков, с которыми поддерживал связь во время учёбы в Москве (например, торговому крестьянину с Курострова Пятухину, у которого деньги занимал).
Это не домысел. Дело в том, что «первое стихотворение Ломоносова» (так его ошибочно называют) нашлось, уже после смерти учёного, не в архиве Спасских школ, как следовало бы ожидать, если бы это были ученические вирши, а на Курострове. Хранителем бесценного автографа стал один из замечательных жителей северного края куростровский кораблестроитель Негодяев-Кочнев, построивший более ста судов по заказам казны и купцов, в том числе английских. За свою просветительскую деятельность Кочнев был награждён золотой медалью Вольного экономического общества, членом которого состоял с 1804 года.
Грамотный и деятельный Степан Матвеевич глубоко уважал своего великого земляка, был его почитателем и, по мере сил и возможностей, реализатором просветительских идей на их общей малой родине. Он собирал документы и воспоминания, связанные с жизнью и деятельностью Ломоносова, создал первый своего рода музей его памяти в стране, стал инициатором открытия первой на Курострове школы, которую содержал за свой счёт. Видимо, ему и передал Пятухин перед смертью этот артефакт.
Бережно хранимый лубочный стих, написанный рукой Ломоносова, Кочнев, понимая ценность этого документа, передал позднее академику И.И. Лепёхину. При публикации этого широко известного теперь сочинения «Стихи на туесок» была сделана сноска: «Получено от г. Степана Кочнева 9 июля 1788 года», а также примечание: «Сочинение г. Ломоносова в Московской академии за учинённый им школьный проступок». То есть полемическое стихотворение, написанное 23-летним мужчиной то ли в Киеве, то ли сразу после возращения в Москву, выдано за извинение школяра, уличённого в детской шалости. Это могло быть ширмой, если бы примечание делал сам Ломоносов, но стихотворение было «обретено», как мы уже говорили, после его смерти. Так что примечание – самодеятельность публикаторов, которые, не поняв истинного смысла стихотворения, отнесли причину его создания к раскаянию автора за «уклонение в сторону „сладкого” времяпрепровождения в годы школьной учёбы».
Некоторые исследователи, понимая несостоятельность этой версии, предположили, что «Стихи на туесок» – перевод некой латинской нравоучительной притчи, не называя, правда, какой именно. Но если бы в оригинале действительно был образец мудрости древних италийцев, то они, наверное, озаглавили бы его как «Стихи на амфору», а уж никак не на туесок. Да и не было у них, вроде, такой традиции – расписывать стихами свои амфоры, им хватало рисунков, рекламирующих, я бы сказала, здоровый образ жизни.
Выговские друзья Ломоносова
Похоже, из выговской жизни были не только первые учителя, но и первые друзья-товарищи Михайлы Васильевича. Мы не знаем ни одного куростровского друга его детства или товарища отроческой поры. Но знаем Петра Корельского, который учился ремеслу медника на Выгу, а также Амоса Корнилова, выросшего и выученного староверами в Выговской пустыни. Эти три выговских подростка (Амос, Михаил и Пётр) поддерживали связь друг с другом и во взрослой жизни. Все трое оставили свой, хотя и несравнимый, след в истории.
Пётр Семёнович Корельский стал искусным мастером по металлу. По заказу Ломоносова он делал посуду для химической лаборатории учёного. Это, в частности, указано в полном собрании сочинений М.В. Ломоносова. Сохранился рапорт, поданный Ломоносовым в канцелярию Академии 21 февраля 1749 года: «За сделанную железную пробирную печь для лаборатории заплатил я меднику холмогорцу Петру Корельскому для скорости его домового отъезду три рубля моих собственных денег».69 Эта печь (перегонный куб) хранится сейчас в Государственном историческом музее Москвы. Представляет собой медный сосуд цилиндрической формы ёмкостью 1/3 ведра с навинчивающейся медной крышкой, в которую впаяна отводная трубка.
Пётр, по сохранившимся преданиям, был сыном «бывой вотчины Антониева Сийского монастыря Николаевской Матигорской волости крестьянина Семёна Корельского», отца третьей жены Василия Ломоносова Ирины Семёновны и соответственно её младшим братом (для нашего исследования значимый факт, к которому мы ещё вернёмся). Он стал одним из первых хранителей истории семьи Ломоносовых-Корельских. Фрагменты этой истории дошли до наших дней благодаря его правнуку в шестом колене Василию Павловичу Корельскому, опубликовавшему в 1996 году в Архангельске книгу «На моем веку».
В этой книге Корельский, уроженец холмогорской земли, северный мореход, капитан с многолетним стажем, впервые открыто и убеждённо, основываясь на существовавших в его роду преданиях, высказался в пользу гипотезы о том, что отцом Ломоносова являлся царь Пётр I. Книга, изданная в период «перестройки» и ставшая теперь уже раритетом, была встречена одними читателями с большим интересом, другими отвергнута резко, а порой даже грубо, без какой-либо попытки осмысления представленного материала. Однако труд В.П. Корельского, безусловно, вызвал накануне 300-летия учёного новую волну не только читательского, но и исследовательского интереса к ломоносовской теме, к биографии учёного.
Второй друг детских и юношеских лет Михайлы Ломоносова – Амос Кондратьевич Корнилов стал известным полярным мореплавателем, промышленником-судовладельцем, легендарной личностью на Поморском Севере. Дата рождения его неизвестна, но, по его собственным показаниям, данным в 1764 году в Петербурге Морской комиссии, он «23 года ходил от города Архангельского и из Мезени кормщиком, за шкипера на прежних старинных и новоманерных судах, из которых прежние шиты были еловыми прутьями», затем «имел на Грундланде (Груманте, так называли поморы архипелаг Шпицберген. – Л.Д.) и в Новой Земле морские и прочие звериные промыслы», куда плавал за морским зверем 15 раз, неоднократно оставаясь там на зимовку. И если вычесть эти 38 лет из даты показания Морской комиссии (1764), то получается, что руководителем промысловых артелей (кормщиком) и капитаном малых гражданских судов (шкипером) Амос начал работать с 1726 года.
Но прежде Корнилов должен был пройти путь зуйка (так поморы называли мальчиков-учеников, работавших на промысловых судах), а затем – рядового члена рыболовецкой артели или грузового судна, то есть набраться морского опыта, иначе никто не пошёл бы под его руководством на опасный промысел в море-океан и никто не доверил бы ему судно. Обычно у мореходов (мореходцев, говорили поморы) такая начальная профессиональная подготовка занимала до десяти лет. Корнилов, будучи толковым человеком, мог и за более короткий срок себя показать, а поэтому можно предположить, что впервые он вышел в море зуйком году в 1716-20.
Писатель Борис Шергин, который, по его словам, «родился в Архангельске, в семье корабельного мастера первой статьи, и половину жизни провёл в среде людей, прилежащих мореходству и судостроению», писал: «Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с девяти, с десяти повезут в море работать навыкать». Информации Шергина, прекрасно знавшего специфику организации поморских промысловых артелей, можно доверять. Исходя из неё, мы получаем приблизительную дату рождения Амоса Корнилова: 1706-1710 годы. Получается, что Амос Корнилов и Михаил Ломоносов – практически ровесники.
Многие исследователи, писавшие о Корнилове, утверждают, что М.В. Ломоносов его хорошо знал и даже дружил с ним. Но если отказаться от версии обучения Ломоносова на Выгу, то когда они успели подружиться и хорошо узнать друг друга, если Михайло, по официальной биографии, до ухода из дома жил на Курострове, а Амос всю жизнь был связан с Выгом; первый с 1741 года безвыездно жил в Петербурге, а второй разрывался между Архангельском, Мезенью, Выгом, Шпицбергеном и Новой Землёй? А с 1749 года у Корнилова вообще своё дело, требовавшее его присутствия в местах промысла круглогодично.
Но если согласиться, что юный Ломоносов – ученик староверов, то получается, что в подростковом возрасте все трое, Амос, Михайло и Пётр, могли одновременно находиться в Выговской пустыне и, будучи почти сверстниками, дружить и помогать друг другу с юных лет. Шергин так писал о поморской мужской дружбе: «Ростят себе отец с матерью сына – при жизни на потеху, при старости на замену, а сверстные принимаем его в совет и дружбу, живём с ним дума в думу». Вот так складывались, видимо, и отношения Ломоносова с Корниловым и Корельским.
Разрабатывая в конце жизни проект экспедиции в высокие широты Северного Ледовитого океана (в 17-18 веках он назывался: Море океан Ледовитый, Ледовитое море, Северный океан, Северное Полярное море и т.д.), Ломоносов писал: «…ветры в поморских двинских местах тянут с весны до половины маия по большой части от полудни и выгоняют льды на океан из Белого моря; после того господствуют там ветры больше от севера, что мне искусством пять раз изведать случилось». В комментариях к этой работе в шестом томе полного собрания сочинений Ломоносова отмечено, что «это указание свидетельствует об участии Ломоносова в промышленных поездках своего отца в течение пяти лет до его ухода из дому, т.е. с 13-14-летнего возраста».
Насчёт пяти лет – всё верно: как-либо иначе эти слова Ломоносова трактовать невозможно. А вот насчёт возраста – скорее всего, ошибка комментаторов, так как считается доказанным, что Ломоносов начал ходить с отцом в море с девяти лет. Но тогда получается, что отец почему-то перестал брать сына на промысел после того, как тому исполнилось 14 лет (по Ломоносову, к этому возрасту молодые люди уже становились «большими» и даже могли жениться). Так почему же в девять лет, а потом ещё пять годков мальчишка (ещё совсем ребёнок!) был нужен на трудном и опасном промысле, а, став подростком, уже почти мужчиной, якобы оставался дома?
Такая ситуация была бы возможна, если бы Ломоносов в 14 лет вдруг серьёзно заболел или был травмирован с потерей трудоспособности. Но ничего этого в его биографии не зафиксировано. Позднее во многих своих работах, так или иначе связанных с морями и мореходством, он делал много ссылок на морской опыт. Но, конечно же, только собственного детского интереса и опыта ему, к тому времени уже известному учёному, было бы недостаточно для дальнейшего глубокого изучения морских проблем.
Возможно, он выходил в море и после 14 лет, но уже минуя «поморские двинские места», то есть не из Двинской губы. Тогда это ещё одно подтверждение того, что с 14 лет он жил не дома с отцом, а в Выговской пустыни. Это старообрядческое общинножительство имело «для прокорма» свой достаточно мощный промысловый флот. Выговские артели, ходившие на «вольные ловы» на Мурманский берег, по озёрам и в море (к Новой Земле, Шпицбергену, Норвегии), не только ловили рыбу, но и заготовляли тюленя, белух, варили соль и топили сало. Историки Выга утверждают, что староверы предприняли даже несколько плаваний в Америку, что вполне логично, учитывая не законные, а согласительные начала существования пустыни: сегодня «пусть живут», а завтра – сравнять с землёй (что и произошло в конце концов).
Выговцы это хорошо понимали и искали места, куда можно было бы скрыться в случае смертельной (не только для конкретных людей, а и в целом старообрядческого движения) опасности. Такими местами могли стать удалённый американский берег или необитаемые острова Ледовитого моря-океана. Для организации подобного похода в условиях ледового плаванья руководители пустыни должны были развивать и совершенствовать свой флот, а также готовить грамотных мореходцев, которые хорошо понимали бы стихию океана, умели соотносить свои действия с его характером, ориентироваться по малейшим изменениям окружающей среды, поведению птиц и зверей, движению льдов, смене ветров.



