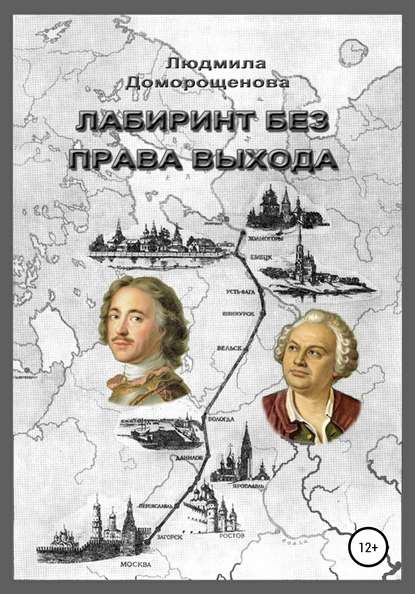 Полная версия
Полная версияЛабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова
И Коньков, и Белявский были уверены, что люди, обращавшиеся к Михайле с просьбой заверить их показания, оказывали подростку большую честь, как-то выделяли его этим. А сам факт подписи якобы говорит о том, что Михайло был хорошо знаком со всеми этими достойными людьми разных сословий. Н.Л. Коньков так и пишет: «Северные автографы гениального помора дают представление об окружении семьи Ломоносовых, их деловых связях в промысловых кругах черносошного крестьянства Подвинья. Они свидетельствуют не только о высоком уровне грамотности юного Ломоносова, но, что не менее важно, об известности и авторитете, которым он пользовался у различных слоёв населения Поморья»67.
Вполне понятно желание людей, с большим уважением и даже любовью относившихся к памяти великого учёного, отдавших много времени и сил изучению его жизни и творчества, ещё выше поднять его уникальность и значение даже в детские годы, но всё-таки надо признать, что данное утверждение – явная натяжка. В 1997 году научный сотрудник РГАДА И.А. Малышева защитила докторскую диссертацию «Материалы таможенного делопроизводства XVIII века как объект лингвистического источниковедения». В этой работе, где детально проанализированы таможенные документы многих губерний, в том числе Архангелогородской, читаем: «…непосредственными создателями таможенных документов были писчики. В архангельских книгах называется ещё одна должность, связанная с исполнением писцовой работы,– ручник. Так называли служащего, главной обязанностью которого было расписываться за неграмотного или отсутствующего торговца. В книгах разных таможен выявляется круг лиц, которые ставят свои подписи „по велению” другого лица. Такую же работу исполняли и писчики, …если подпись „по велению” ставит писчик, он всегда называет свою должность, вероятно, потому, что это не было его прямой обязанностью, в многократных же рукоприкладствах одних и тех же лиц, поставленных ими „по велению” торговцев, должность подписчика не названа ни разу, что позволяет думать о том, что рукоприкладство являлось его основной обязанностью и не было необходимости называть свою должность».
То есть для всех видов «писчих» работ на таможнях малограмотной России предусматривались, что вполне логично, специальные люди: писчики и ручники. Почему же тогда в Архангельске «достойные торговые люди» должны были привлекать (да ещё и регулярно!) знакомого юнца для удостоверения своих сведений? Тем более что речь идёт не просто о закорючке на некой бумажке, а о серьёзной ответственности за зафиксированные сведения, хотя подписчику, в данном случае, всего тринадцать лет (день рождения будет через месяц с небольшим). И куда смотрели при этом целовальники, своего рода таможенные инспекторы, которые должны были следить, чтобы все не только исправно платили сборы, но и имели на руках соответствующие правильно оформленные документы? Для этого целовальники и избирались ежегодно на таможню из числа опытных и грамотных (по крайней мере, так требовало начальство) местных жителей разных уездов губернии.
Но, видно, и тогда допускались разумные исключения из правил, вызванные каким-либо форс-мажором. В 1725 году таким непредвиденным обстоятельством стал очень большой подход рыбы на Мурмане, о чём говорят таможенные документы. По сводной ведомости о сборах «с мирских промышленных судов», двинянин Василий Ломоносов сам и «с товарищи» ранее платил в таможню за выловленную рыбу так: в 1720 году с четырёх судов восемьдесят копеек, в 1723-м с одного судна двадцать пять копеек с половиной, в 1724-м с двух судов рубль и одну копейку с половиною. То есть приблизительно от 20 до 50 копеек. А вот в интересующем нас 1725 году с шести судов таможенниками было взято уже шесть рублей, да «на расходы девять копеек», то есть не менее чем по рублю с судна. А это значит, что в тот год они выловили и доставили в Архангельск на продажу «трески да палтосины» в пять раз больше, чем в 1720 году! В такие удачные годы количество промысловиков на Мурмане значительно увеличивалось, что в какой-то степени затрудняло работу таможни в конце сезона.
Рыбаки с промысла возвращались в Архангельск обычно к осенней (позднее названной Маргаритинской) ярмарке, которая начиналась в середине сентября и продолжалась до окончания торгов (порой до Гурьева дня, который отмечался 15 ноября), а это, как видим, и есть время первых в жизни Михайлы «рукоприкладств». Кстати, в том году, по данным таможенных книг, проанализированных И.А. Малышевой, целовальники на Архангелогородскую таможню избирались исключительно из горожан и (что для нас здесь важнее) холмогорцев, которые, возможно, и попросили Василия по знакомству выделить в помощь «запарившимся» ручникам грамотного сына. Поэтому, скорее всего, отец малолетнего грамотея в тот раз просто выручил земляков. А поскольку Михайло ходил с отцом на промысел с девяти лет всего пять раз, то это было последнее его возвращение с Мурмана. И значит, искать его автографы в других таможенных книгах бесполезно, что и доказывает жизнь.
Следующим по времени (через четыре месяца после таможенных рукоприкладств) автографом стала расписка Михайлы в некой «Тетради порядной каменя, кирпича и древ Куростровской церкви церковного строителя Ивана Лопаткина». Она была заведена в связи с предстоявшим строительством на Курострове каменной церкви-колокольницы на месте сгоревшей в 1718 году деревянной Дмитриевской церкви, о чём куростровцы в 1725 году били челом Холмогорскому архиепископу Варнаве.
В начале следующего года Варнава указал: «…к церковному и каменному строению камень и известь и прочие припасы благонадёжно приготовлять». Тогда же нанятый крестьянами мастер церковного строительства Лопаткин для учёта этих «припасов» и завёл свою «Тетрадь…», куда тщательно записывались различные подряды, которые брали на себя крестьяне близлежащих волостей, и расчёты по ним. Тетрадь была найдена сотрудником Архангельского губернского статкомитета А.Г. Тышинским в 1865 году, в год 100-летия памяти М.В. Ломоносова, при обследовании архива Дмитриевской церкви.
Среди первых в ней был записан подрядный договор, который начинался словами: «1726 году февраля 4 дня, Кузоменского стану, Островской деревни черносошные крестьяне Алексей Аверкиев сын Старопоповых, да Григорий Иванов сын Иконников подрядились мы в куростровскую волость у священника Ивана и у церковного строителя Ивана Лопаткина к строению церкви каменной на крытие кирпичных сараев я, Алексей, подрядился добыть 50 тесниц, а я, Григорий, подрядился добыть 100 тесниц.» (цит. по: Пекарский П.П. История Академии наук. СПб, 1873, т. 2).
Под этим договором на поставку специальных тёсаных досок, которые прочнее и долговечнее пилёных, составленным писцом (а в каждой волости были свои писцы и ручники, нанимаемые миром за деньги), стоит подпись: «Вместо подрядчиков Алексея Аверкиева сына Старопоповых да Григория Иванова сына Иконникова по их велению Михайло Ломоносов руку приложил». То ли на момент составления договора куростровский ручник куда-то отлучился, то ли запросил много за свой труд (за неоговорённые в договоре найма услуги ручник получал плату с «клиента» сам), нам неизвестно. Не знаем мы также, дал ли Михайле отец разрешение на эту подпись и как расплатились с грамотеем мужички.
Интересно соотношение почерков осенних и зимнего автографов, между которыми совсем небольшой временной разрыв – четыре месяца. Их анализ сделала Л.В. Мошкова, которая, как мы говорили выше, нашла два «дополнительных» таможенных (1725 года) автографа Михайлы. Людмила Владимировна как специалист по рукописям обратила внимание на то, что процесс написания текста осенью первоначально даётся отроку с трудом, что особенно видно на самой первой записи, сделанной за отца. Можно предположить, считает она, что «если М. Ломоносов и учился до этого письму у какого-либо учителя, то обучение ограничилось начальным этапом: показом того, как правильно держать перо и писать буквы. Дальше он, вероятно, практиковался сам и делал это не слишком часто: хотя определённая беглость в почерке присутствует, но хорошо видно, что к письму он не совсем привычен».
Очень интересно замечание археографа и о том, что осенние записи (16 автографов) постепенно улучшались, что естественно: раз от раза подросток приобретал уверенность, учился писать буквы, ориентируясь на записи других. В то время как зимняя роспись возвращается к самой первой осенней, выполненной за отца. Всё это подтверждает предположения и догадки ряда исследователей: Михайло ещё ребёнком, в доме Луки, видел, как пишут его родственники – будущие таможенные подьячие, старался подражать им, спрашивая названия букв. Ведь и сейчас именно таким образом ещё до школы учатся писать и читать многие дети.
Однако в доме неграмотного отца парню было, видимо, не до письменных упражнений, о чём говорит и похожесть первого осеннего и зимнего автографов: оба, полагает Мошкова, ориентированы на образцы, полученные при начале обучения. То есть, вернувшись домой, Михайло до начала февраля уже больше не держал перо в руке, которая «забыла» полученный на таможне опыт.
Новая церковь на Курострове строилась несколько лет, и Лопаткину пришлось ещё много раз доставать свою «Тетрадь…». Но следующий и последний в ней автограф Ломоносова появился лишь четыре года спустя. Запись гласит: «1730-го января 25-го дня я же Пётр Некрасов принял у строителя Ивана Лопаткина в уплату три рубли денег. Платёж подписал по велению Петра Некрасова. Михайло Ломоносов». И вот этот последний северный автограф будущего учёного уже кардинально отличается от его неуверенно выполненных первых рукоприкладств (1725 и 1726 годов) своим отточенным мастерством. Запись выполнена так называемым беглым, или круглящимся полууставом, для которого характерны красивые округлые начертания букв, манерные изгибы петель и хвостов, применение таких скорописных приёмов, как выносные знаки. Чёткая ровность строки и тренированный каллиграфический рисунок букв говорят о том, что подростку в эти годы приходилось писать много и по определённым правилам.
Л.В. Мошкова утверждает: «…генетически этот тип письма не восходит к более раннему, не может развиться из него; изменения не эволюционны, но революционны. Следовательно, Михайлу учили писать по-новому (то есть переучивали), ставили ему почерк, предлагая совершенно иные образцы для подражания. Во-вторых, это книжный (или „учёный”) почерк, а не делопроизводственный. В-третьих, это вполне разработанное, устойчивое письмо человека, привыкшего и умеющего это делать. Следовательно, за прошедшие четыре года (вернее, четыре зимы) Михайло приобрёл умения и навыки, которыми не обладал ранее»68.
Людмила Владимировна спрашивает себя: где Михайло мог научиться именно так писать? Напрашивающийся сам собой вариант ответа на этот вопрос – обучение в Выговской пустыни, предлагается ею первым, но тут же отвергается на основании того, что, мол, эта гипотеза, высказанная в начале 20 века, уже подвергалась критике. Второй вариант, похоже, сформулирован ею лично: «В четырёх километрах по прямой (через реку) от родного села М.В. Ломоносова располагались Холмогоры – центр архиепископской кафедры, знаменитый в недалёком прошлом при владыке Афанасии (1682-1702) активной книгописной деятельностью, которая не прекращалась и при последующих владыках. Обучение при скриптории – один из традиционных путей для лиц, желающих получить книжное образование».
Однако известно, что первый, после Афанасия, архиерей так и не доехал до Холмогор, умер в пути; служение следующего продлилось не больше двух лет; третий умер через три года после приезда. А при архиепископе Варнаве (1712-30) в Холмогорах уж точно не было никаких скрипториев, по крайней мере, никто из исследователей и историков края об этом не упоминает.
Кроме того, мастерские по переписке рукописей, скриптории, создавались в основном в монастырях, так как сия тяжёлая работа кроме усидчивости и определённого таланта требовала полного отречения от мирских забот и хлопот о себе и семье – своего рода отшельничества. Да и зачем архиепископу создавать скрипторий в миру, если рядом с Холмогорами был Сийский мужской монастырь с отлично налаженной работой писцов и даже со своей типографией, где можно было разместить заказ на нужную книгу в необходимом, хотя и незначительном, правда, количестве экземпляров.
Конечно, на сайте Архангельской областной научной библиотеки можно прочитать, что «в конце 17 века при архиерейском доме в Холмогорах попечением архиепископа Афанасия книгописная деятельность… велась регулярно». Но далее здесь же уточняется: «Каким образом выполнялся процесс переписки рукописей, кто были писцы, и была ли при архиерейском доме специальная мастерская, объединявшая профессионалов-переписчиков, неизвестно». То есть утверждение о существовании скриптория в Холмогорах и об обучении здесь в начале 18 века подростка Ломоносова ничем не подтверждается.
Третий вариант, предложенный Л.В. Мошковой,– спорадическое обучение в славяно-русской школе при архиерейском доме в Холмогорах – противоречит ею же высказанному утверждению о том, что почерк записи 1730 года говорит о постоянных научно-литературных занятиях его обладателя. В реальных условиях того времени это возможно лишь при системном монастырском обучении. И, судя по качеству знаний, полученных Михайлой на родине, речь может идти только о Выговской пустыни. Отсутствие каких-либо свидетельств нахождения юного Ломоносова на Курострове или в Архангельске в период между 1726 (февраль) и 1730 (январь) годами, зафиксированное «Тетрадью…» Ивана Лопаткина, вполне может свидетельствовать о том, что именно в это время юноша и находился на обучении у староверов на Выгу.
Ломоносовский «след» на Выгу
Выговский настоятель в 1780-91 годах Андрей Борисов, видный книжник и автор 19 сочинений, в том числе житий братьев Денисовых, вынашивал идею создания на Выгу учебного заведения высшего типа, своего рода академии, при которой школы грамоты могли играть роль гимназии. И хотя это не удалось реализовать по независящим от выговцев обстоятельствам, существование таких планов говорит о том, что соответствующие учебная, методическая и материально-техническая базы для этого здесь имелись, и они были основательно опробованы годами просветительской работы.
В 1857 году власти, запретив деятельность старообрядческих общин на всей территории России, конфисковали и вывезли с Выга 286 самых ценных книжных раритетов. Через несколько лет остатки той библиотеки были переданы в кафедральный собор Петрозаводска. Именно здесь через двадцать лет, в 1877 году, известный археограф А.Е. Викторов нашёл рукописный сборник житий, на одной из страниц которого в разделе «Служба и житие Димитрия Мироточца» обнаружил надпись, из которой следовало, что с этой книгой когда-то работал М.В. Ломоносов.
Житие Дмитрия Солунского, называемого также Мироточцем (? – ок. 306),– это жизнеописание одного из наиболее чтимых святых в православном мире, великомученика (пам. 8 нояб. по н.с.), покровителя г. Фессалоника (славянский Солунь). На Руси в начале принятия христианства этот святой был особо почитаем владимиро-суздальцами и новгородцами. Их передовые отряды, участвовавшие в колонизации северных земель, добравшись до «края земли» (низовье Двины), первоначально старались базироваться, в целях большей безопасности, на островах, в том числе на обширном Курострове, постепенно вытесняя оттуда чудских первосёлов. Очевидно, они и принесли на Куростров культ этого святого, в честь которого здесь был построен храм его имени (первые упоминания встречаются в документах 14 века).
Житие этого святого, а затем и изложение его чудес были переведены в 14 веке в составе Стишного пролога (календарный сборник кратких, в форме двустиший, житий и памятей святых), а также более развёрнутых проложных чтений в минеях служебных, написанных прозой. В 16 веке это Житие вошло в Великие Минеи Четьи, созданные по замыслу новгородского митрополита Макария.
Особенно этот труд заинтересовал, своими возможностями просветительства на примере древлеправославных святых, выговских старшин. В подражание Макарию они составили для Выговской пустыни свои четьи минеи, а позднее включали выписки из макарьевской книги в состав своих рукописных четьих сборников, называемых «цветниками». Подобные сборники состояли из различных выписок, изречений, душеполезных примеров, объединённых, как правило, одной или несколькими близкими темами.
Такой тематический сборник и был обнаружен тогда А.Е. Викторовым. Эта рукописная книга в кожаном переплёте привлекла внимание археографа надписью на 40-й странице: «Списывал сие метрами Михайло Ломоносов». Находка была привезена в Москву, но не внесена в музейные фонды, поскольку при ближайшем рассмотрении оказалось, что надпись сделана не рукой Ломоносова. Особенно это заметно в написании буквы Т как буквы Ш – без верхней перекладины, что не встречается ни в одном раннем тексте Ломоносова.
Посчитав, что эта находка может быть интересна землякам учёного, Алексей Егорович, который незадолго до того побывал в командировке в Архангельске и уже знал местных краеведов, отправил книгу для дальнейшего изучения в Архангельский губстаткомитет, который в то время активно занимался краеведческой работой и даже с 1861 года имел свой музей. Мог ли Викторов не сопроводить при этом найденную им книгу разъясняющим письмом или запиской, из которой было бы понятно, что это за рукопись, на что надо обратить внимание и как «расшифровывается» выявленная надпись? Конечно, не мог! Однако в Архгубстаткомитете, сохранив присланную книгу, никак не стали её комментировать: возможно, сотрудники его, будучи горячими почитателями великого земляка (а это так!), не захотели связывать его имя с «невежественными», как тогда считалось, раскольниками.
А связь эта просматривается явно, поскольку слова «списывал сие метрами» говорят не о механическом переписывании (копировании текста), а о переводе текста в стихотворную форму, так как «метр» в данном контексте – это стихотворный размер, определяющий ритм стихотворения. Выговские просветители, как мы уже говорили, справедливо полагали, что структурированные «метрами» тексты легче воспринимаются и запоминаются слушателями, поэтому «рифмовали» всё, что возможно, в том числе, как видим, и жития, делая их «стишными». Списывание «метрами» Жития Дмитрия Солунского, чьё имя было по-своему свято для юного Михайлы Ломоносова, являлось для него, скорее всего, учебным заданием, полученным, конечно же, не от сельского дьячка, владевшего лишь грамотой, а от выговских учителей, способных создавать собственные произведения, в том числе в стихотворной форме, чему они учили и своих воспитанников.
В 1897 году на базе музея губстаткомитета был создан Архангельский городской публичный музей. С 1926 года он назывался Северный краевой, с 1937-го – областной краеведческий музей, к которому в 1938-м присоединили музей революции Северной области. Очевидно, именно в этот период надпись на Житии Дмитрия Солунского была прочитана по-революционному «правильно»: «Списывал с сей тетради Михайло Ломоносов», чему соответствовала и созданная вновь история этого экспоната. Якобы книга была найдена в архиве куростровской Дмитриевской церкви; в этой церкви, мол, с неё списывали тексты для себя православные христиане, в том числе и Михайло Ломоносов, который оставил в ней свой «автограф». А чтобы списывать прихожанам было удобнее, книгу якобы «расшили» на отдельные «тетради».
Однако в 1954 году, когда книгу с «автографом» Ломоносова затребовали из Архангельска в Москву, сотрудники областного музея в сопроводительном документе честно дали первоначальную расшифровку надписи, сделанную Викторовым: списывал сие метрами (естественно, без указания авторства надписи Ломоносова). Эта книга хранится сейчас в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук (Ф.20. 0п.003. Д.141) как рукопись, с пометкой б/д (то есть без даты написания).
К сожалению, версия обнаружения этого артефакта на Курострове с якобы автографом М.В. Ломоносова прочно вошла в ломоносововедение, чему, вольно или невольно, способствовала Е.С. Кулябко (1900-91) – кандидат исторических наук, научный сотрудник архива Академии наук, куда попала эта книга. В своём достаточно авторитетном издании «Судьба библиотеки и архива М.В. Ломоносова» она указала, что, мол, в сдаточном акте Архангельского краеведческого музея дано ошибочное чтение: «Списывал сие метрами Михайло Ломоносов», а надо читать: «Списывал с сей тетради…». Кулябко утверждала, что такая «правильная» запись является документальным подтверждением того, что Ломоносов не только читал, но и переписывал церковные сочинения. Это дало ей основание предполагать, что «некоторые собственноручно переписанные, а также подаренные ему книги могли положить начало юношеской библиотеке, которая была оставлена им на Севере и не дошла до нас».
Было ли это личным мнением академического архивиста Кулябко или идеологическим компромиссом руководства Академии наук, также не желавшим связывать имя Ломоносова с раскольниками, сказать трудно. Но при этом «уточнение» Кулябко в описание самого дела 141 так и не было внесено: в оцифрованной и выложенной ныне в Интернете архивной описи до сих пор остаётся первоначальная запись о метрах, поэтому можно смело полагать, что именно она является правильной.
Однако в литературе, да и на сайте музея М.В. Ломоносова, и сейчас можно прочитать, что «среди имущества церкви (речь идёт о Дмитриевской церкви на Курострове. – Л.Д.) сохранилась рукопись „Житие и служба Дмитрия Солунского”, переписанная из старопечатной Минеи 1692 г., сильно истёртой и закапанной воском в соответствующем месте. Эти листы Минеи и переписывались как для нужд церкви, так и набожными прихожанами для себя. На одном таком „Житие” открыта помета: „Списывал с сей тетради Михайло Ломоносов”. Это один из первых дошедших до нас образцов почерка Ломоносова, относящихся к тому времени, когда он приобретал опыт письма и осваивал грамоту».
Сторонники этой версии не обращают внимания на то, что в библиотеке Куростровской церкви, как и любом другом православном храме на территории России в 20-е годы 18 столетия, то есть более чем через полвека после Московского собора, постановившего изъять все старые церковные книги, никакой старопечатной минеи, не прошедшей церковной правки, быть не могло. А уж переписывать такую минею для общественных нужд или личного пользования смели только старообрядцы, что они при необходимости и делали, но никак не в «никонианской» церкви.
И уж тем более не мог Михайло Ломоносов переписывать эту книгу в Дмитриевской церкви, которая сгорела ещё в 1718 году, когда ему было всего неполных семь лет. Ни её архив, ни библиотека не сохранились в том пожаре, во время которого из деревянного здания удалось вынести, по свидетельствам очевидцев, только главные сокровища этой церкви – древний храмовый образ Дмитрия Солунского и престольный антиминс (плат с вшитой в него частичкой мощей святого великомученика), священнодействованный в 1706 году архиепископом Сильверстом. Новая же каменная Дмитриевская церковь была построена только в 1738 году, когда Ломоносов уже уехал навсегда из родных мест.
Однако все эти аргументы до сих пор не принимаются официальным ломоносововедением, ограничивающимся оговоркой о возможных «контактах М.В. Ломоносова с выговцами». Слова эти очень показательны: мол, мало ли где будущий учёный мог встретиться со староверами, мало ли что они могли дать почитать молодому рыбаку, а он взял да и списал себе что-то на память. Признать, что Ломоносов учился в Выгореции, пока не достаёт духу. Вот и выкручиваются ломоносововеды, как могут, не гнушаясь грубыми подтасовками, или «честно» признаются, что источник столь высокого уровня изначальной теоретической и практической подготовки будущего учёного им неизвестен. А, мол, ничего не значащие «контакты» с раскольниками – что ж, вполне могли быть… В связи с этим нельзя не остановиться здесь на сведениях, приведённых М.И. Верёвкиным в академической биографии М.В. Ломоносова, о том, что «младой его разум (выделено мною. – Л.Д.) уловлен был раскольниками так называемого толка беспоповщины». Давайте рассмотрим внимательно, о чём именно повествует здесь господин Верёвкин. А говорит он о том, что Ломоносов начал обучение у староверов-беспоповцев (поморцев). Именно обучение, так как понятие «разум», «ум» выражает высший тип мыслительной деятельности человека, его способность и умение мыслить самостоятельно; область же веры – душа, открытая для понимания и принятия непостижимой умом благодати Божией. Староверы же «уловили» именно разум, а не душу будущего учёного, если исходить из свидетельства его первого биографа.
По мнению авторов известного фильма «Михайло Ломоносов» (1986), это произошло прямо на Курострове, где якобы организовался некий скит, руководители которого вели с подростком какие-то просветительские беседы. На самом деле, конечно, никакого скита в «шаговой доступности» архиепископа Варнавы, ярого врага старообрядчества, быть в принципе не могло. Тем более что в этот период при епархии имелась особая команда вооружённых солдат под руководством провинциал-инквизитора Александра Тихонова (духовная инквизиция была введена в России Петром I и существовала с 1721 по 1727 год). Эти инквизиторы рыскали по всей губернии, отыскивая даже в самых отдалённых поселениях раскольников – главных, с точки зрения как церкви, так и светских властей, еретиков, безжалостно истребляя их пустыньки, часовенки, иконы, а также старопечатные и рукописные, в том числе особо ценные харатейные, книги.



