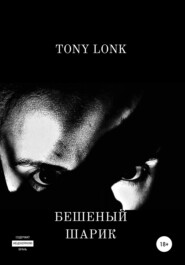 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Бешеный шарик
Поспешив на детский крик, в кабинет ворвалась Фокса. Выражение ужаса на лице матери – последнее, что запомнила о том случае маленькая Людовик. В мановение ока, Фокса сорвала со стены ружье и что есть сил, ударила прикладом Джуну по голове.
Медицина Эшенленда переживала необратимый упадок. Меченым людям, по законам страны, не предоставлялась медицинская помощь. Их раны затягивались дольше обычного, и нередко этот мучительный процесс сопровождался серьезными осложнениями. Ситуация Людовик требовала незамедлительного вмешательства. В порыве сумасшествия Джун нанес девочке дополнительные увечия. Согласно общепринятым стандартам, двери клиники были закрыты для маленькой Людовик, но в тот день статус ее семьи впервые послужил ей во благо. Врачи не пренебрегали своими способностями, но были вынуждены опираться на возможности государственной медицины. Жизни Людовик ничто не угрожало, но ее некогда прелестное личико было навсегда обезображено.
Оказавшись в холодной палате наедине с дочерью, Фокса уверенно произнесла:
– Он больше не приблизится к тебе. То, что с тобой произошло – самое страшное, что могло быть в твоей жизни и это уже позади.
3
В государственную программу тотальной экономии были экстренно внесены поправки. Пункт «Устранение животных ради спасения людей» разъяснял эшенлендцам план, состоящий из двух версий.
Согласно первой версии хозяева домашних животных в добровольном порядке обязывались прибыть со своими питомцами к ближайшему ветеринару. Мирная сдача животных на усыпление давала хозяину возможность быть рядом со своим верным другом на момент смертельного укола и разрешение на отдельную могилу в месте, специально отведенном для захоронения домашних животных. В первые дни возле ветеринарных клиник образовались длинные тихие очереди. Люди печально смотрели на своих любимцев, стараясь растянуть момент прощания как можно сильнее. Те, чья очередь подходила к моменту закрытия клиники, радовались словно дети – им давался счастливый шанс побыть с дорогими сердцу питомцами еще один день.
Вторая версия носила принудительный характер. Квартальные патрульные совершали рейд по квартирам, жестоко изымая животных у хозяев, которых хозяева всеми силами пытались спасти. Животные, изъятые патрульными, умирали в одиночестве и захоранивались в одной большой яме.
Устранение бродячих животных так же возлагалось на квартальных патрульных. Они разбрасывали отраву по районам и отстреливали всех кошек и собак, попадавшихся на их пути. Запах разлагающихся в подвалах и чердаках животных отравлял людям и без того невыносимое существование, в котором больше не было места для любви.
В один из первых дней действия специальных полномочий, квартальная гвардия пришла за Линчем. Государственная программа «Устранение животных ради спасения людей» шла полным ходом, но старик Энтони ничего о ней не знал, а Уинстон забыл ему рассказать все, что услышал об этом у себя дома.
Старик был слишком стар, слишком слаб и слишком добр для того, чтобы дать отпор квартальным патрульным. Трое молодых парней жестко повалили Энтони на пол, три раза ударили дубинкой, строго соблюдая протокол, после чего закрыли фактического нарушителя закона в туалете, чтобы тот не мешал ловить кота. Уинстон стал невольным свидетелем поимки Линча. Рыжий наглец искал глазами своего хозяина. В самом конце мальчик встретился взглядом с котом, который уже был помещен в тесную клетку. Тогда он впервые увидел как выглядит страх и отчаяние животного.
Энтони долго не выходил. В его «домике» воцарилась мёртвая тишина. Понимая, что мальчик в этот самый момент испытывает болезненное смятение, старик все же решил не оставлять Уинстона одного.
–У меня было много котов. – сдерживая слезы произнес Энтони. – Каждого нового котенка я называл в честь персонажа из книги, которую к тому моменту перечитывал. Их поведение было абсолютно противоположным моим ожиданиям, и я сделал вывод, что имя не влияет на жизнь животного.
Когда я был совсем мал, даже припомнить не могу, сколько мне тогда было лет, мама принесла в наш дом чёрного котенка. Это было летом, кажется в июле. Отец наотрез отказывался заводить кошку – только кот, по его глубокому убеждению, мог оставаться в нашем доме. А коты-то у нас совсем не приживались, но что можно доказать зрелому мужчине, который собственное упрямство слишком часто направлял против себя. Старые приятели уверяли, что отдают пушистого мальчишку. Он был последним из помета, и по непонятным для меня причинам никто не хотел его забирать. Это был маленький чёрный комочек безобидного страха. Через пару дней кто-то высмотрел, что пушистого мальчика тут и близко не было. Нам нагло подсунули пушистую девчонку, которая никому не нравилась. Стоит отметить, моя мама знала, кого берет, и целесообразно умалчивала об этом. Отец сразу же смирился с фактическим положением дел и напомни я ему спустя годик-другой о том, как он противился кошкам, меня точно подняли бы на смех. Да, дружочек, такой итог можно назвать счастливым. Мы назвали ее Блэйки.
Она была беспощадно агрессивна ко всем и ласково заботлива исключительно по отношению ко мне. Ее мало кто любил и каждый чувствовал, находясь с ней поблизости, что-то вроде противненького страха и унизительной опаски. Действительно, Блэйки можно назвать опасной кошкой – мне есть с чем сравнить. Даже немного странно, что такой адски стервозный характер сформировался в нашей мирной и спокойной семье.
Блэйки всегда спала со мной. Я научил ее обниматься, поэтому она всегда ловко умащивалась слева от меня. Это был живой, теплый и душистый пушистик, с которым даже в самую темную жуткую ночь не было страшно. Помню, когда я не ложился спать вовремя, она громко мяукала и требовала от меня строгого соблюдения правильного режима. Стоило ей замурлыкать рядышком, как горькая обида, жуткая головная боль и просто дурное настроение мгновенно исчезали. Так и росли мы с ней вместе, сохраняя преданную дружбу. Это было больше, чем дружба.
Большую часть жизни Блэйки отличалась крепким здоровьем, силой и выносливостью. Ее ярко черная шерсть буквально сияла удивительным перламутром. Мы даже не помышляли о том, что она может резко постареть и смертельно заболеть. Кошки болеют так же страшно, как и люди. Их онкология ничем не отличается и посылает не меньше страданий. Больше года мы боролись с болезнью Блэйки. Она буквально гнила заживо, а я дважды в день делал ей, пожалуй, бесполезные перевязки, стирал пропитанные гноем попоны и шил новые. Помню дни звонкой детской радости после того, как Блэйки сделали операцию и удалили жуткие опухоли. К сожалению, прекрасно помню и тот день, когда я увидел, что рак вернулся. Помню тот запах. Помню, как я плакал от невозможности ей помочь. После ее смерти я жил с чувством вины и очевидно по этой причине у меня появился псориаз. До сих пор не могу постигнуть смысла тех мук, которые возложены на животных. Пожалуй, я и умру с этим. Хотелось бы на пути в рай или ад выйти на остановке, где свой покой находят зверушки. Хотелось бы, чтобы там меня ждали.
– Эти люди нарочно тебя обидели. – сообразил Уинстон. – У них не было причины тебя бить.
–Мы живем в обществе, где достойных людей, на которых не принято делать ставки, называют только по имени, а выскочек, тщетно пытающихся казаться кем-то достойным – исключительно по фамилии. Так вот, дружочек, я – Энтони Толлок! Полноценный человек! Квартальные патрульные не видели здесь человека. Они видели только приказ. Теперь мне пора раскрываться, дружочек. Можешь остаться, если тебе не страшно.
Подойдя совсем близко к своему отражению в зеркале, старик Энтони начал расстегивать причудливые пуговицы пестрой жилетки, которую он ни разу не менял за все то время, что они с Уинстоном были знакомы. Под пестрой жилеткой оказалась такая же пестрая жилетка, и всего таких жилеток было около семи. Как оказалось, Энтони был не таким упитанным, как думал Уинстон. Три последние жилетки оказались испорченными странными бурыми пятнами. Размер и насыщенность пятен была неодинаковой, в зависимости от того, насколько близко та или иная жилетка прилегала к телу. Грязная рубашка непонятного цвета являла собой и вовсе неприятное зрелище. В зеркальном отражении перед Уинстоном возникла страшная картина. Расстегнув рубашку, Энтони открыл грудь. Это была огромная сочащаяся кровью язва. Уинстон никогда не видел ничего подобного.
–Это жизнь, дружочек. Бытовая жизнь, без прикрас. – задумчиво сказал Энтони.
–Давно у тебя эта рана? – спросил Уинстон.
– Мне кажется, что я живу с ней всю свою жизнь. Веришь или нет, но я не помню, когда она появилась. Теперь я не буду ее прятать. Пусть делает со мной все, что угодно. А тебе пора, дружочек. Вдруг это заразно. Ступай домой и не приходи ко мне.
– Никогда? – обиженно спросил Уинстон.
– Давай мы не будем видеться хотя бы недельку, договорились? – заискивающе спросил Энтони.
– Я приду в следующую среду! Утром и вечером мама будет дома и у меня не получится выбраться, а как только она пойдет за покупками – я сразу же буду у тебя!
– Ладно. Чтобы тебе было не так скучно в эти дни, я разрешаю взять у меня любую книгу. Это будет мой подарок. Выбирай, дружочек.
Уинстон выбрал тоненькую книжицу «Бешеный шарик», повествующую о том, как в руках одного задиристого мальчишки безобидный оловянный шарик превратился в орудие, причиняющее вред остальным. Это была первая книга, которую ему когда-то прочел Энтони.
Они не прощались. Уинстон ушел неохотно. Так покидают единственное место, где имеется угол для живого существа. В родном доме мальчик не имел ничего своего, а в квартире Энтони ему был дарован целый мир.
В слепящем сиянии первых солнечных лучшей нового дня на кровать одинокого книгочея запрыгнула очень красивая черная кошка, а следом за ней – около дюжины котов. Увидев их, Энтони заплакал и стал задыхаться от нежданного счастья.
– Блэйки! Джерри-проказник! Фауст! Джоконда! – кричал старик, шуточно сопротивляясь массированной кошачьей атаке. Он искал Линча и уже подумал, что тот умудрился сбежать от мучителей в форме, но Линч запрыгнул на кровать с другой стороны, как он привык еще при своей недавней жизни.
Это была лучшая компания, в окружении которой одинокий Энтони Толлок мог уснуть навсегда. В это время Уинстон перелистывал подаренную ему книгу и нашел то самое письмо матери, о котором рассказывал старик. В глубине души мальчишка понимал, что Энтони разрешит ему прочесть письмо. Во всяком случае, он на это надеялся.
«Я иду по кривым дорожкам жизни. И это притом, что у меня пространственный кретинизм, отмеченный в свое время умными людьми, которым доводилось иметь со мной дело. Ступаю ровно, ступаю вкось, ступаю вправо, ступаю влево, ступаю без оглядки и все равно ступаю не туда, где хотела бы оказаться моя душа. Я знаю, что у меня есть душа. Маленькая, но сильная. В сравнении с моим щуплым телом, эта душа сущий гигант. Возможно, по этой причине мне так тяжело справиться с собой. Приходится обуздывать себя ежедневно. И причина не в том, что мною владеет похоть в придачу с остальными грехопаденческими паттернами. Тяжело втиснуть то, что я из себя представляю в классическую картину бытия.
Как много сказано было еще вчера. Как много хочется сказать сегодня. В моей голове много умных слов и правильных идей, в которых так нуждаются все, кто со мной знаком. Даже если это знакомство поверхностное или заочное. Я думаю, что мои слова имеют значение. Я верю в это. Но почему? Почему в этом нет фактического, доказанного многолетним опытом, простого человеческого смысла? Почему я не могу сказать то, что важно? Почему я внушаю себе, что важное уже давно произнесено? Почему моя трусость меня устраивает?
Никому от меня ничего не нужно. Моя важность – это плод моего воображения. Уязвимость пытается спрятаться за искусственным фасадом социальной значимости. Все иллюзия. Мы можем искать спасителей только в нас самих. Мы никому не можем помочь, ровно, как никто не может помочь нам. Много времени и усилий было брошено в черную дыру иллюзий. Что мы представляем на самом деле? Мы – черные дыры, обрекающие свое существование на мрачную пустоту. Как горько признавать, что возможно в этом и скрыт замысел высших сил, владеющих эксклюзивными правами на существование вечности.
Часто мою голову кружит мысль о том, что через каких-нибудь сто лет ничто не будет свидетельствовать о моем существовании. А как же годы тяжелого труда над собой, пережитых страданий, борьбы за право быть незаурядным человеком? Все это не будет иметь значение. Сейчас мне безразлична судьба женщины, которая жила двести-триста лет назад. В моем районе за эти сто-двести и даже триста лет жили тысячи женщин и их истории жизни не имеют никакой ценности. Ни для меня, ни для кого бы то ни было. Выходит, что человек – это всего лишь одно мгновение. Одинарная вспышка, которая, скорее всего, останется незамеченной.
Я иду по жизни разными дорогами, и все они ведут меня в неправильном направлении. Откуда я это знаю? Для дорог и тропинок жизни не предусмотрено правильное направление. Человек должен устать, а утомляют только извилистые пути. Таким образом, конечный тупик воспринимается путником как логическое завершение всего, о чем он узнал, шагая к обросшей банальностями мечте. Последний раз вздохнуть и послать проклятье всему, что осталось позади – это высшая ступень блаженства. И это дается нам напоследок. Не всем, но многим. Есть те, кто умирают с верой в свою мечту и твердой уверенностью, что каждый их шаг был верным.
Я – усталый путник в пустыне с красным песком. Почему красный песок? Я люблю красный песок и могу себе позволить использовать красный песок в собственных фантазиях, как мне вздумается и когда мне вздумается. И вот я иду по пустыне с красным песком. Почему я там оказалась? Куда я иду? Что хочу увидеть в конце пути? Я не знаю. Я ничего не знаю ни о себе, ни о своей жизни, ни о красной пустыне. Я просто иду, куда глаза глядят. У меня нет ничего за плечами. Ни еды, ни питья. У меня никогда ничего не было. Я не добытчик и не герой. Я просто иду. Меня мучает жажда. Я внушаю себе, что в любую минуту могу выпить хоть ведро чистой прохладной воды, но лучше насладиться живительной влагой вон за той далекой дюной. И это срабатывает. Много далеких дюн пройдено благодаря иллюзии. А что если этого не достаточно?
Есть ли смысл идти дальше? Я же знаю, что логическое завершение – это тупик. Где я найду тупик в красной пустыне? Не стоит забывать, что мне подвластна моя жизнь. Я могу прямо здесь, на этой, по моим подсчетам сорок шестой, дюне встретить свой конец. Просто упасть и представить себе, что это и есть мой тупик. Представить свой последний вздох и настолько поверить в это, чтобы дышать и в самом деле было нечем.
Меня вела вера в то, что дюна за дюной я ухожу от своего одиночества. Красная пустыня и есть мое одиночество. Я пришла в этот мир одна, оказалась в красной пустыне снова одна и уйду отовсюду тоже одна. Моих стараний было не достаточно. Что бы я не сделала – всего будет не достаточно. И мой воображаемый последний вздох не оправдает возложенных надежд. Нет ни надежд, ни тех, кто их возлагает.
Ты скажешь мне: «Как же так!». Или спросишь: «Как же так?». У меня не будет ответа. Ты говоришь или спрашиваешь это, исходя из паттернов, давно изживших себя. Тебе впору обратиться с этими словами к самому себе и понять, что ответа на них нет, и не может быть.
Мы ждем отклика на свои мольбы. Мы вечно что-то ждем. Идем в никуда и ждем, что наш путь одобрят. Как долго ты готов ждать? Мое ожидание мне только мешало. Двигаться в никуда нужно самозабвенно. Мы привыкли обременять себя мыслями и чувствами, а кому в красной пустыне нужно его человеческое достоинство и мысли о чуде? Нужно шагать только вперед и обязательно с пустой головой! Пустую голову легче наполнить иллюзией. Иллюзиям необходимо большое пространство.
Ты возмутишься. Что имеет человек с пустой головой? У него ничего нет. А что есть у тебя с твоей перегруженной и чрезвычайно умной черепушкой? У тебя найдется несколько ответов, лишь бы мне возразить. Давай, подумай, раскинь своими увесистыми мозгами, придумай мощный, аргументированный ответ. И обязательно, чтобы твой ответ был в пику моим словам, которые как никогда наполнены правдой. Так гораздо интереснее. Только прежде, чем обрушивать на меня доказательства своей правоты, подумай сам, насколько ты всему этому веришь.
Я больше ни во что не верю. Ничто не имеет значения. Зачем верить в то, что не способно утолить жажду в красной пустыне? Все ложно. И жажда ложная. Как жажда может мучить человека, который давно уже умер?
Меня больше нет. И не было никогда. Были образы, не интересные даже для меня самой. Сейчас я просто путник в красной пустыне. Мертвец, представляющий свой последний вздох.
Мне так пусто. Так пусто, пусто, пусто… и даже красный песок не радует взор. И за последним вздохом почему-то следует еще один вздох. И нет этому конца. Очевидно всего, что я сделала, оказалось недостаточно».
Уинстон, как когда-то и сам Энтони, ничего не понял из письма. «Чтобы в этом разобраться действительно нужно пятьдесят лет», – произнес мальчик и спрятал письмо обратно в книгу.
4
Отдавая львиную долю своего внимания государственным делам, Фокса все же успела заметить перемены в поведении Людовик. Ее звонкий голос, который раньше частенько выводил Фоксу из себя, больше не звучал даже в самые погожие дни. Людовик тихо и безрадостно играла в новые игрушки, пугливо оборачивалась, если кто-то был рядом, неохотно шла на контакт даже с матерью, а все ее маленькое существо с каждым днем сжималось все больше и больше. Она видела себя в зеркале и не могла привыкнуть к параличу правой части лица. Стесняясь своего вида, Людовик старалась быстро покинуть место, где появлялись люди. Задорная девчонка в один миг превратилась в сутулое существо неопределенного возраста с вечно склоненной головой.
Однажды, гуляя в заброшенном саду, Людовик услышала голос отца. Он стоял за оградой, протягивая к ней свои трясущиеся руки. Джун выглядел жутко: отсутствующий взгляд, судорожная мимика, дрожащий голос. Было видно, что мужчина не ухаживал за собой с тех пор, как лишился семьи. Он кричал дочери слова сожаления и просил у нее прощения.
Людовик смотрела на отца волчонком. Он сам и его раскаяние доставляли девочке нестерпимую муку. В состоянии испуга, ставшего для нее за последнее время почти родным, она стремительно побежала к дому. Людовик слышала, что с отцом творится что-то неладное и даже жуткое, но не оборачивалась. Джун достал тот злосчастный нож, которым изуродовал Людовик и стал резать самого себя.
– Доченька, обернись! – кричал он. – Видишь, я наказываю себя! Будь свидетелем! Я причиняю себе боль в качестве расплаты за каждую твою слезинку! Так выглядит справедливость! Ты должна дать мне свое прощение!
Наказывая самого себя, Джун желал искренне даровать облегчение своей любимой Людовик, но он и подумать не мог, что этот кровавый эпизод навсегда сломит ее хрупкую душу. Ему никто не сообщил, что больше недели, после их встречи, Людовик чуть живая лежала в своей комнате и каждый раз приходя в сознание, начинала задыхаться.
Ее спасением стал балет. Фокса чудом нашла старую балерину, которая более тридцати лет тому назад вернулась из Союза доживать своей век в райском Эшенленде. Строгий педагог не давала девочке ни минуты покоя и научила Людовик сублимировать пережитые страдания в нечто поистине прекрасное.
5
– Если в доме птицы – выпускайте их в окно. Кошек, собак, любую иную живность мы забираем с собой.
Допустив ошибку в протоколе, квартальные патрульные, пришли к Темптонам во второй раз. В отличие от первых двоих, эти ребята внушали страх.
– Тараканов возьмете? – дерзко спросил юный Темптон. – Их очень трудно вылавливать. Нужна аппаратура. У вас есть?
– Одного мы поймаем, без проблем. – ответил главный патрульный.
Без промедлений и на высоком профессиональном уровне, квартальные патрульные скрутили юного Темптона. Заблокировав любую возможность сопротивления, они вывели новоиспеченного нарушителя во двор, где его уже ожидало место в небольшом грузовичке, наполовину заполненном изъятыми ранее животными. Не теряя времени, патрульные вернулись к Темптонам, чтобы продолжить свою миссию.
– Животные имеются? – переспросил главный и самый суровый патрульный.
– Нет. Мы не жалуем животных. Наш дом только для нас. – с опаской произнесла хозяйка.
В этот момент из своей темной комнатки выглянул испуганный Уинстон. Голоса патрульных были ему знакомы. Именно эти двое ворвались в дом старика Энтони. Заметив мальчишку, патрульный закричал:
– Это кто?!
– Человек! – не выдержала мать.
Патрульный пристально смотрел на мальчика. С этого момента он перестал скрывать свое презрение к Темптонам.
– По всем признакам, он родился в период действия закона «О нормировании количества членов семьи». Вы не имели права рожать второго ребенка.
– Ему семь лет. – запротестовала мать.
– Пять лет, не больше. – тихо сказал начальнику второй патрульный.
Ситуация накалялась на глазах. Уинстон и его мать несправедливо оказались в опасном положении. Патрульные не собирались уходить ни с чем.
– О, как же меня достали эти лживые свиноматки! Вопреки закону, наплевав на критическое положение в государстве, эти бабы живо раздвигают ноги и плодят лишние рты! А потом, глядя нам в глаза, беззастенчиво и красочно лгут! За кого ты нас принимаешь, старая потаскуха?!
В борьбе за справедливость патрульные стали бить провинившуюся, по их глубокому убеждению, женщину. Не жалея своего времени и сил, они пинали ее в живот, в спину, спотыкаясь в порыве своей деятельности об ее лежащее тело. Когда бить ее уже не было смысла, патрульные поспешили уйти, закрыв плачущего Уинстона в ванной. По дороге к следующей точке, они выбросили юного Темптона на обочину.
Не имея денег на медицинские услуги, юный Темптон ждал и надеялся, что его мать сможет восстановиться самостоятельно. Она всегда быстро приходила в порядок, несмотря на тяжесть и опасность болезни, с которой ей приходилось бороться. Как только мать позволила, Уинтон лег возле нее и попытался обнять ее настолько крепко, насколько был способен. Так, в теплых объятиях они пролежали три дня, пока мать не умерла. Даже такой сильный и выносливый человек не мог чудом исцелиться от полученных травм. «Разбитая селезенка» – все, что о смерти матери услышал Уинстон. Он не знал что это, но старался не забывать слова, которые пока что ему ни о чем не говорят, до тех пор, пока ему не станет понятна правда.
Уинстон стойко, но с болью в сердце, переживал потерю, о которой его предупреждал старик Энтони. Последний человек, от которого мальчик мог дождаться хоть немного тепла и любви, умолк навсегда.
Глава 5. 2074
1
Юный Темптон уже давно ходил в статусе Темптона-старшего. Он мог считать себя бесконечно правым, испытывая к Уинстону чувство презрения и всеобъемлющей нелюбви, но официальное родство продолжало держать их обоих в заручниках сложившихся обстоятельств и Темптон-старший, скрепя сердцем, был обязан присматривать за Темптоном-младшим.
Долгое преследование несносной Санни увенчалось успехом для Темптона-старшего спустя пять лет его верного ожидания. В самом начале их совместной жизни, Санни стремилась наладить контакт с Уинстоном, но ложь Темптона-старшего в отношении Темптона-младшего была ближе ее сердцу. В результате, Уинстон был вынужден бороться за свои права в доме с крепкой и сплоченной парой, ведущей против него агрессивную бытовую войну.
Бессонными ночами Уинстон любил рассматривать жизнь вне его дома через узкое окно негласно не принадлежавшей ему комнаты. Зрелище было мало увлекательным, но покров темноты был более близок Уинстону, чем откровенный в каждой мелочи дневной свет. Когда-то давно одинокий книгочей Энтони Толлок рассказал ему, что тьма является убежищем света и по странному стечению обстоятельств остается недооцененной людьми. Уинстон не мог оспорить странное предположение, услышанное тем вечером, ровно как не мог и согласиться с ним. Со временем он начал по-своему понимать, что конкретно хотел вложить в его детскую пытливую память старый опытный друг. Будучи таким же одиноким, Уинстон сумел оценить достоинства тьмы.
Чаще всего Уинстон невольно останавливал свой взгляд на далеком светлом пятне. Это было окно нормальной формы и стандартного размера, в котором каждую ночь до самого рассвета уже больше недели неизменно горел свет. Дом, на четвертом этаже которого располагалась квартира, где ночью не гасили свет, стоял на относительно близком расстоянии. Между домом Уинстона и домом с привлекающим светлым пятном находилась большая, вечно пустующая и разрушенная годами забвения детская площадка, на которой Уинстону никогда не разрешали гулять.



