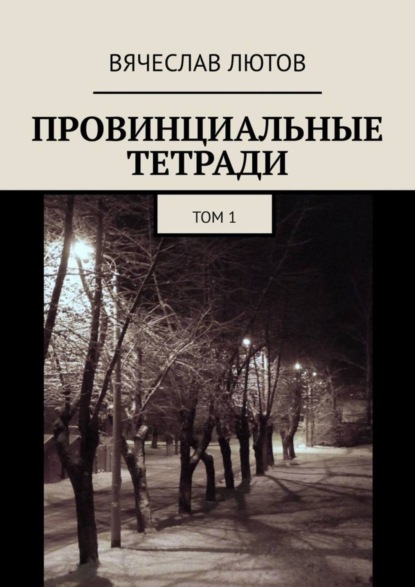
Полная версия:
Провинциальные тетради. Том 1
Во дворе
По желтым листьям во двореБегут навязчивые тени,И в этом дивном октябреЖиву среди добра и лени —Мне хорошо смотреть, как садУже загадывает строкиПро бесконечный листопадИ про сырые водостоки.Пока еще смешно бродитьВокруг песочницы остывшей,И что-то пальцами лепить,Теряясь в силуэтах бывшихНе то людей, не то зверей,Не то обломков здешних зданий;И нет труда среди огнейСпешить за нежными словами,Когда качели чуть скрипятИ двери хлопают в Подъезде,Когда луны лукавый взглядИсполнен холодом и лестью.Но суть – его не замечать,Сжигая осень спичкой серной;И долго во дворе гулять,И пепел стряхивать манерно…«Расскажи мне свой грустный сон…»
Расскажи мне свой грустный сон,В час, когда вечер бродит по саду,Отбивает прощальный поклонИ спешит, и спешит к листопаду.Расскажи мне свой грустный сон,В час, когда так невидимы лужи,И бранится хмельной почтальонИ походкой идет неуклюжей.Расскажи мне свой грустный сон,В час, когда так назойливы мошки,В час, когда дальней церковки звон,Как воришка, влезает в окошко.Расскажи мне свой грустный сон,В час, когда невесомы догадки,И спешат облака под уклон,И деревья вздыхают украдкой,Расскажи мне свой грустный сон…1991«И вот уж осень на излете…»
И вот уж осень на излете,До снега – ровно полчаса.И вы меня не узнаете,Прекраснейшие небеса.Что ж, это – верная приметаТого, что сохнет на корню.А впрочем, вас и ваше летоТеперь и я не узнаю…1992«Что ж, попрощаемся… Пора…»
Что ж, попрощаемся… ПораИ мне спешить за нею следом,Той, что уносит со двораМои восторги и победы;Той, что смягчает пыльный бредИ в акварели листья прячет;За той, что никогда не плачетНад теми, кто идет вослед.1991НЕЧАЯННЫЙ ГОСТЬ (1991)
И вот, когда по сонным кварталам растеклась ночь,и все сломлено,и потеряны линии крыш и деревьев,мне печально и тихо.Сигаретный дым будет медленно наполнять комнату,чай в чашке будет остывать,а ноги мерзнуть от сквозняков —как обычно;как обычно придут незванные сентиментальные мысли,и мы станем говорить ни о чем:быть может, о погоде,о первом снеге,о северном ветре;и все лишь затем,чтобы отогнать скуку,чтобы развеять грусть,чтобы почувствовать себя не таким уж одиноким, как раньше,и не совсем одиноким, как потом.Мне что-то говорит мой призрачный гость,одетый в серый плащ и даже не снявший шляпы;но о чем он ведет речь – я могу лишь догадываться.Слова его ритмичны, словно он читает свои новые стихи —и минуты приложимы друг к другу, как строка к строке;я улыбаюсь,я уже давно не попадаю в рифму,я повис на стене, подобно картине,я повис на стене, подобно гитаре,на которой никто из моих домашних не умеет играть.Нечаянный гость укоряет меня в лени;впрочем, я согласен с ним,а потому мне ни капли не стыдно —я бездумно валяюсь на диване и мну пальцами сигарету,смотрю на коричневые обои,смотрю на свою фотографию, где мне всего семь лет,смотрю на книжные переплеты,смотрю на качающиеся занавески,смотрю на переливающиеся хрусталики лампы, —и нахожу в том неведомую доселе привлекательность…Человек в сером плаще смотрит на меня безнадежными глазами —он —мое провинциальное вдохновение —нелеп и бесцветен.Я говорю ему,что не стоит лишний раз тревожить душу —свою и чужую —равно как не умея играть, садиться за белоснежный Беккери пытаться неподвижными и негнущимися пальцами угадать две-три ноты,одну за другой.Нет, – говорю я ему, – к чему все твои старания?Сейчас, должно быть, он обидится на меня,возьмет прокуренными пальцами фетровую шляпуи приподнимет ее, прощаясь —но он назойлив,как муха, что ползает по моим бумагами читает их по диагонали, подобно маститому снобу-критику;он смотрит на меня своими большими глазамии спрашивает о завтрашнем дне —откуда я могу знать о завтрашнем дне,когда я даже не представляю себе сегодняшней ночи…Он перебивает меня холодным замечанием,что как раз ночь, увы, уже на излете,и что никто, кроме него, меня теперь уже не потревожитни стуком,ни криком,ни взглядом,ни вздохом;а оттого он осмелился назвать меня братом —пусть будет так;он польстил мне, назвав мой ум светлым и гордым, —пусть будет так;он предсказал мне, что я умру с почетом и во славе —пусть будет так, —совсем не плохая участь…Он сказал, что руки мои трескаются от безделья —и ошибся;он сказал, что я ни дня не проживу без строчки —и ошибся;он сказал, что я должен войти в лоно литературы,подобно тому, как входят в лоно женщины, —и ошибся…Ты плохо кончишь, – обреченно подытожил они отставил чай в сторону,и потянулся за сигаретой,и стал искать глазами спичкии пепельницу.Вот-вот…кто из нас сгорит раньше,чем эта спичка успеет почернеть и скрючиться?Мой друг, – сказал я, – мы и сами не знаем, чего хотим;зачем же нам винить друг друга;наши слова прекрасны —так стоит ли злоупотреблять этой красотой,придавать ей одноразмерность, созвучие? —ибо невозможно подчинить закону хаос,и любое ars combinatoria —лишь тщетная попытка параграфа подчинить себе все смыслы.Ты неисправим, – ответил он, —ты находишь тысячу оправданий своей лени,ты жаждешь публично зарыть свой талант в землю,ты хочешь, чтобы тебя жалели,ты хочешь, чтобы тебя любили,ты хочешь, чтобы о тебе пели,ты хочешь, чтобы тебя признали богом —смешно…смешнопотому, что этого хочет тот,кто ни разу не ударил палец о палец,кто ни на сантиметр не приблизился в желаемой цели,кто только и делал, что оглядывался по сторонам, всего пугаясь…Он печально улыбнулся мне и сказал,что продолжает наивно надеяться и верить в меня,что есть на земле вещи,которые несоизмеримы с комнатой,которые требуют полета,которые жаждут бунта,сумасшествия,отречения,любви;что каждое слово должно быть вечным,что каждое чувство должно быть сильным,что каждый штрих должен быть верным.Он, разгоряченный, вскочил со стулаи суетно продолжал говорить о том,что нам не суждено увидеть воочию все изломы истины,что мы каждый раз лишь созерцаем одну единственную ее плоскость,что мы похожи на слепых котят, тыкающихся в разные предметы, —но и в этом случаемы не так безнадежны, как казалось,мы не так ничтожны, как кажется,мы не так бессильны, как будет казаться…Ты пойми, – кричал он, – все зависит лишь от нас,от нашего духа,от нашего ума,от нашего поиска;что нас не водят за нос,а если бы даже и водили, то никуда бы не привели,раз мы сами того не желаем.Он сказал, что пришло время быть Творцом.Он внимательно смотрел на меня,он светился от важности своей фразы,словно люминесцентный фонарь на железнодорожной станции;он ждал, ждал, ждал…А я…
я встал с дивана и отправился в туалет;
потом прошел на кухню и выглянул в окно —
там, за окном, падал снег,
там, за окном, были лишь черные окна домов,
там, за окном, шипел ледяной ветер,
там, за окном, коченели голые ветки лип,
там, за окном, горели сиреневые фонари…
Конечно,конечно, я еще не совсем потерян,я молод и глуп,я чист и светел,я полон сил и энергии —надо обязательно сказать об этом моему нечаянному гостю,чтобы он не записал меня раньше времени в реестр несостоявшихся,чтобы он, в конце концов, не думал обо мне так плохо.В моих руках оказались две чайные чашки —зачем?зачем нужны мне одному две чайные чашки? —комната была пуста;и я подумал о том,что впору считать рыжие половицы от стены до стены.И было столько свободы,что я даже растерялся, не зная, как мне поступить с ней;и хорошо, что все окончилось так быстро;я включил магнитофон,я стал крутить в пальцах спичечный коробок,я уставился на нелепую настольную лампу…А вокруг уже текла музыка,и на островке своего стула было так приятно выкурить сигарету,ни о чем не думая,ни с кем не разговаривая,никуда не спеша,никого не ожидая.Табак и бумага тлели,тлели,тлели, —и никто, я знаю, никто не в состоянии хоть как-нибудь переиначитьтакой порядок вещей итакую обыкновенную постоянность метаморфоз…ноябрь, 1991СОР (1991)
Куда стремишься ты, поэт,Пытаясь быть звездой нелепой,Стараясь плакать возле склепа,Которого в помине нет,И, презирая тяжесть лет,Спешишь к заказанным мирамПо переулкам и дворам,Чтоб среди скуки райской негоЧитать молитвы и псалмы;Зачем же лучшие умыСвершали дерзкие побегиИз этой сказочной тюрьмы?Но страшно ль жить среди развратаВ кварталах черных и скупых,Где все заброшено до сих,Где непорочным нет возвратаИ лишь идут стихи от них?Здесь хорошо, и все знакомо:От фонаря до управдома;Здесь мутный запах чертит кругИ здесь любой известен стук.Для коммунального содомаНет стыдных мест, чужих дверей;Спеши и ты туда скорей,Ступив на хвост соседской кошке,Свернув, ругаясь, козью ножку;Горюя в страсти к табаку,Нудить о коликах в бокуИ слушать пьяную гармошку;И проклиная то да се,Писать стихи про это все…О том, как древняя старухаЗаснуть не может на печи,И что-то злобное рычит,И ковыряет спичкой в ухе,И ищет ржавые ключи…О том, как звонок ад квартир;И доктор, уличенный в пьянстве,Вмещает этот дивный мирВ свой огнедышащий сортир.Ему упрек в раблезианствеВсего дробина для слона,И в этом не его вина,А тех, кто мнит себя посланцемОт бога ли, от сатаны —Среди… мы все равны…Писать о том, как чинно жить,Не доползая до дивана,Но исключив тропу обмана;И добрым словом дорожить,Не утешать и не тужить;А чтобы совесть не болела —Заняться всуе русским делом;Не в меру умным дать под зад,Забыв спросить, кто виноват,Оставив Герцена в покое.Почтив в сердцах вишневый сад,Таланты сходятся по трое,А после по трое лежат.Что ж, вот такая перспективаУ тех, кто хочет жить не криво,Не извиваться, не юлить,Не восхвалять и не хулить,Не ставить сонные вопросыО качестве первоначал;Курить сырые папиросыИ петь, как бравые матросыСходили гордо на причал,Как Константин ногой качалИ что-то грустное мычал;Как нервно ползают в затылкеЧужие мысли, ложки, вилки,И погнутый столовый нож…А если плохо пропоешь —Тебя размножат на опилки…О том, как в мусорных бачкахВека прошедшие томятся,И как глаза твои слезятся,И стынет слово на устах…Неужто боль, неужто страх!Понять тоску консервной банкиИ резкий жестяной оскал —Кто слюнки тайные стирал,Как непорочность с лесбиянки?Кому досталась эта честь —Смотреть, как умирает жесть?Когда кончается терпеньеИ возникает жажда выть,Уже не остановишь тленье,И будь доволен, что чадитьТебе осталось в мире этом;Не доверяя никому,Читать вчерашние газеты,Пририсовать рога тому,Кто смотрит с мутного портрета.Касаясь тяжести веков,Хирургом вырезать заметкуО том, как местные кокеткиПопали в руки мусоров,Как участковый был суровИ посадил бедняжек в клетку —И вот до сих они поют,Как скорбен их нелегкий труд…Но, впрочем, мелкие деталиПодвластны «гению» едва ли.Стратег последствий и причин,Сторонник глубины и дали —Он импотент среди мужчинИ целый век крутил педали;И даже девственницы злоЕму сморкались на чело…Но у Облонских все смешалось —Какой кошмар, какая жалость,Какой беспечный кавардак!Полуподвал-получердак —Одно наследие осталось:В сиянье битого стеклаЛуна куда-то потекла…Все разойдется вкривь и вкось:Обшивка рухляди старинной,И пепел в полости каминной,Свеча, табак, собачья кость,Лоскут футболки магазинной,Наклейка от бутылки винной,Десяток скомканных страниц,И фото неизвестных лиц,Изгиб гитары семиструнной,И грязный медицинский шприц,И статуэтки блик чугунный,И канцелярская печать,Давно забытые игрушки,И металлическая стружка,И злоскрипучая кровать,Друзья до кучи и подружки,Затем подъездные старушки,Скамейки, линии ветвей,Противный пух от тополей,И дым машин, и стук дверей,И безалаберные дети,И экскременты на паркете,На кухне – капающий кран,Кастрюли, чайник и стакан,Здесь разговоры о балете,О новостях из дальних стран,О Данте, Байроне и Шелли,О Достоевском и Рабле,О мудрости Макиавелли,О цирковом парад-алле,О перестройке, о законах,О бунтарях и чемпионах,О теще-стерве и жене,И о тебе и обо мне…Вот и живем мы как во снеИ бьем сумятице поклоны!Здесь неприветливы домаДля белокурых, чернобровых,Им сыплют вместо мака порох,Им «хорошо сходить с умаИли кончать самоубийством»,Когда они не в силах жечьПорок, озлобленность и желчь;Когда от прошлого витийстваОстался жалобный сквознякИ не разменянный пятак;Когда уже любовь в наградуТебе подносят, как бокал,Что до краев исполнен яду;И под чужую серенадуТы понимаешь смысл началИ то, что разум обнищал,И нужно выпить все до дна —Как хорошо, что жизнь одна!Что ж, Моцарт выжит был Сальери!Но что с того и что потом?И будь семь пятниц на неделиИ пядей столько же за лбом —Вы ж сами этого хотели!Когда, не ведая стыда,С моей руки пришла беда,Как постоялец-отравитель,Что спит в прихожей вместе с псом.Он мог бы вашим быть отцом,Но он лишь ангел-искуситель.Он вам противен, мерзок… Что ж,За сим и в комнату не вхож.Раскрой глаза свои, поэт!Желаешь ли из грязи в князи?Но этот путь ни в коем разеНе открывал надменным свет!Почувствуй холод вековойНа дымной свалке городской;Средь целлофановых пакетов,Железок ржавых и бумаг,Какой еще отыщешь стягИ поведешь за ним зевакНа берега уснувшей Леты?..Так кто же чище, кто сильней,Кто светоносней в этом храме:Иль инок в посеревшей раме,Иль коронованный злодей,Иль горький шут и лицедей,Пропойца с рожею пророкаИли блудница, дщерь порока?Кто в этой комнате слепой:Гомер или певец из Марры?Кто здесь не чувствует кошмараИ убаюкан тишинойИ легким звуком перегара?Да ладно, бог с ним, что о томПисать, переводя чернила…Мне нравится мой мрачный дом,Что, вероятно, схож с могилой.Уж смята пачка сигаретИ сон велит поставить чаю,Все чаще тянет в туалет,И на излете мысль встречаю,Что все смешно, светло и тленно,Что слово каждое мгновенно,Что все пройдет неумолимо:И блеск Афин, и строгость Рима,Как полуночник из гостейСредь восхищенных фонарейПроходит мимо, мимо, мимо…P. S.Уж нет огня, не будет сил,Уж не резон мечтать о лучшем…Жаль, кто-то лиру раздразнил,И вот в терзании беззвучномРодилось слово, и оноБыть таковым обречено,Не худшим, видно, и не лучшим,Пусть не дошедшим – все равно…Мне нужен пес, чтоб стих стеречь,Или искра, чтоб это сжечь…май, 1991НОЧЬ ЗА ВАГОННЫМ ОКНОМ (1991)
Не знаю, что я пытаюсь отыскать в том черном мире, странном и неизвестном, в том черном мире, что сейчас находится за вагонным окном моего служебного купе – он мне кажется нелепым, иначе как объяснить его существованье?
А черный, потому что ночь…
И у меня нет никакого другого занятия, нежели прикуривать сигарету от сигареты, и небрежно стряхивать пепел в грязный стакан, и тупо смотреть на пожелтевшую раковину, и ни о чем не думать.
Это хорошо – ни о чем не думать.
За окном – едва различимые перелески, тайные и заколдованные; лишь смутные отблески скользят по ним, словно заговаривая от беды. От беды ли?
Пытаюсь поймать далекие огоньки – но только-только протяну руку, как они исчезают, словно никогда и не существовали. Откуда взяться далеким огням среди вековой тайги? – разве что на полустанке, где поезд обычно притормаживает, или останавливается совсем и надолго – пока не прогрохочет встречный.
Дикой страстью веет от этих лесов. И чем-то древним, каторжным. Никогда не был на каторге… Изучаю маршрут…
Смотрю на часы и одновременно на расписание – и уже не могу разобрать: где цифры, а где буквы. Скоро станция, и нужно будить пассажиров. Хотя, зачем? Пусть едут со мной на край света.
Маленький старичок в сером пиджаке и коричневых брюках заглядывает ко мне:
«Скоро, сынок, приедем?»
«С получаса еще».
«Я у тебя водички попью?»
Достаю из вагонного шкафчика чистый стакан и протягиваю ему.
«Ладно хоть вода есть… и бесплатно».
«Скоро она только нам и останется».
Он грустно улыбается, возвращает мне стакан и идет в вагон собирать вещи.
Старики всегда заранее собирают вещи…
Я начинаю думать о том, что все плохо и безысходно; и что уже вряд ли удастся спасти эту страну, так глупо распорядившуюся своим существованием…
…Я мог бы не быть одиноким.
А просто: остаться с кем-нибудь навсегда, и не мотаться по белу свету в ржавом грохочущем вагоне, и не выискивать «зайцев», и не выскакивать в тамбур на каждой станции, и не перебирать проездные билеты, и не бриться по утрам на ходу, качаясь и придерживаясь рукой за желтую трубу.
Я многого бы не хотел, но разве меня кто-нибудь спрашивает о том; и не я ли сам воспел вагонные защелки, флажки и фонари?..
И у меня достаточно времени, чтобы думать о своей жизни? И во мне достаточно сентиментальности, чтобы пожалеть себя. Но я не хочу… жалеть.
Зато сон начинает осторожно подкрадываться ко мне, и я предпринимаю чистку раковины, смахиваю мусор и пыль с рабочего и чайного столиков, беру в руки веник… и вот уже похож на переросшего, но до сих пор маленького принца, который заботливо обхаживает свою планету.
Но у меня нет такой планеты. Точно так же, как у героя Сент-Экзюпери нет вагонной служебки…
Из всех пассажиров ночью у меня выходят лишь двое, и слава богу не на разных станциях, – этот старик и пожилая дама, должно быть, местная бухгалтерша или продавщица. Едва заметив огни, они осторожно, боясь разбудить кого-либо, вышли в тамбур.
Я знаю, что на этой маленькой станции мы будем стоять целых полтора часа – среди ночи, среди жуткой тишины, изредка поглядывая то на часы, то на большой красный глаз светофора у выходной стрелки. И будет прохладно и спокойно – будет много воздуха, много свободы, и не составит большого труда задохнуться в ней; и я в страхе отшатнусь к деревянному забору, и закурю, и буду смотреть, как сизый дым цепляется то за серые ветки яблони, то за черный бархат небосвода.
И не перебьет табак усладительного запаха диких яблонь!..
Я чему-то безнадежно радуюсь: не то ласковому дыханью пустоты, которая вдруг оказалась способной на вздох; не то доброй успокоенности своей, что принесла с собой тихую музыку, появившуюся невесть откуда – с Индии или с Китая…
Может быть и вправду, музыка не нуждается в инструментах и нотах. Она просто существует или не существует.
Все, что вокруг, – музыка.
И мне кажется странным свое бытие – сплошная цепь неведомых чудачеств и невезений – бесцелостное бытие, существование от станции к станции, от восхищения до разочарования. Наверное, это у всех так. Смешные мирки окружают нас, а смешные оттого, что мы их не понимаем, что все наши мысли одномерны и жизнь наша – плоскость.
Но все вещи разговаривают между собой, я знаю. И люди тоже разговаривают.
Вот из вагона вылез местный нефтяник, почетный отец семейства – они у меня едут в последней плацкарте – он в футболке и спортивных штанах.
«Душно».
Я ему ничего не отвечаю.
«Что-то долго стоим здесь…»
«К утру отправимся…»
Я шучу.
«Студенты?»
«Да».
«И каждое лето так?»
«Каждое лето».
О чем говорить? – не знаю.
Я отправляюсь вдоль вагона, со знанием дела проверяя буксы…
Такое ощущение, словно я брожу по тому свету, и название станции, должно быть, – Элизиум. Меня перевез Харон на тот берег.
И странно, что там все, как здесь: и слепые окошки пристанционных домиков, и трухлявый забор, и лоснящаяся под светом фонаря трава; и поезд… главное: поезд, мертвый, черно-зеленый, с бледным ночником по салону…
Стук-стук…
«Сонный сторож стучит мертвой колотушкой…»
И нет больше других звуков, кроме колотушки и музыки моего успокоения. И не надо. Мне не нужно того, чего у меня нет…
Восхитительный мир открывается ночью – бесконечный и загадочный; листья тополя шелестят за спиной…
Откуда здесь, на севере, тополя? – видно, деревья всюду спешат за нами…
Но все, что я хочу сказать, не больше, чем слова; и если бы я захотел спеть, то это было бы не больше, чем песня – звуки и ноты вперемежку с буквами; и краски на моем холсте – не больше, чем оттенки цвета, чьей-то властной и безжалостной рукой запрятанного в жестяные тюбики.
Зачем?..
И я не знаю, отчего человек так стремиться понять то, что очевидно и без его ума; и так же то, к чему его мозги пока не подготовлены. Поэтому смута и суета.
Да, но все гениальные идеи человечества рождаются всуе и в спешке; «все гениальное изначально ничтожно». Вот и я, кавардачный человек, пытаюсь думать обо всем сразу, и нет мне надобности приводить в порядок свои мысли, и нет никакого желания писать для потомков – нужно писать для тех, кто рядом с тобой, и не гнуть из себя невесть что, и не придумывать себя, постоянно дрожа перед тем, что скажут о тебе.
Я, должно быть, эгоист, ибо сначала пишу о себе, а потом уже о своем времени.
…Из вагона тяжело вываливается Вовка – мой названный брат – что-то спрятав в руке. Вот, я и о нем напишу…
Улыбается.
«Братан, выпить хочешь?»
Когда я отказывался! В стакане не то портвейн, не то вермут – ныне все одно и то же, да и в темноте не разберешь ни черта.
«Ты чего скучаешь?»
«Так, за жисть думаю»
У меня хороший брат.
Прекрасно пить на свежем воздухе! – трезвенники не замечают этого: пекутся о своем здоровье.
Дайте человеку вечность – и он растеряется: он не знает, что ему делать с бесконечностью. И не суть важно, умрешь ли ты на десять лет раньше или на десять лет позже от положенного срока – я повторяюсь, и даже знаю, за кем…
Мне хорошо здесь, сейчас, именно в эту минуту, именно в этот глоток замечательно-мерзкого напитка; и в рай меня коврижками не заманишь…
А думы о будущем? Пускай об этом думают философы, ломают свои экзистенциальные головы и кричат: «эврика!» Они не знают, что быть дураком намного мудрее. Или, хотя бы приятнее…
«А глазки у тебя, признаюсь, блестят!»
«Ох, братан, не говори…»
Он закуривает, спичка ломается – Вовка матерится; и ищет глазами, где бы присесть.
«Мужики у меня в вагоне отличные. На вахту поехали. Я им три флакона продал… Вон, вываливаются…»
Написал бы, да грешно ругаться на бумаге…
И спеть бы, да голоса нет; и сыграть бы, да откуда в поезде гитара? Среди тишины и ночи даже самый разбитый инструмент способен выдавать чудесные звуки; можно даже не касаться струн, а воздух все равно будет отравлен музыкой. Я отравлюсь ей, и будут мне мозги промывать. Весело.
Я добродушно обнимаю братана и говорю, что пошел к Натке.
«Ну-ну»…
Не спеши… никуда не спеши…
И откуда такая мысль взялась? Путь все торопятся вершить глобальные дела во имя будущего – я слишком ленив для великих свершений.
В вагоне моем все спят, и в следующем – тоже все спят, и, должно быть, видят сны… А мне сны не снятся. Жаль, очень жаль…
Натка в своей серой рубаке и синей юбке. И рубашка легкомысленная – потому что с рюшечками…
Она улыбается мне и я улыбаюсь в ответ.
«Вот, и Славка пришел, как живой», – говорит она и предлагает выпить кофе.
В наше время – и кофе?
«Я, говорит, у фарцов купила. Недорого. По пятнашке».
Ладно, значит, будем пить кофе… Я присаживаюсь у окна и как бы невзначай задергиваю занавеску.
На столике у нее милый беспорядок: раскрытая косметичка с обыкновенной, не фирменной, помадой, бутылка из-под молока с полевыми цветами, в целлофановом мешке – печенье, тут же граненый стакан-пепельница, забитый доверху фантиками и окурками.
«Сильна ты курить-то».
«Да ты че…»
Жаль, что кофе не горячий… Но титан топить лень. Оттого и мешаем подолгу ложечкой, растворяя походный сахар – нам и спешить-то, собственно, некуда.
И вообще, смешно: поезд, а никуда не едет, словно стоим где-то в забытом богом тупике, слушаем, как каркают вороны вдоль линии. Не спится им…
«Что, Вовка пьяный?»
«Как тебе сказать… Это его обычное состояние».
«Красавчик», – подытоживает она.
Я осторожно кладу ей руку на плечо и подсаживаюсь ближе.
«Это ничего, что вот так?» – она, прищурившись, смотрит мне в глаза.
«Ничего».
И я целую, но чувствую холод губ; и мне кажется, что я не к месту в ее жизни; так, просто: случайный, но очень хороший знакомый. Я все чувствую, черт возьми, но оторваться не могу, не могу освободиться от пьянящего аромата ее губ, от страстной жажды владеть ею всей.
Точно так же, как владеть словом, что мне дано; владеть строфами и рифмой, владеть образом и чувством, владеть каждой запятой и любым пробелом. Я хочу видеть ее своей поэзией…
Но когда уже ничего не нужно, поцелуй прерывается, губы улавливают прохладу ночи; и вот уже пристально разглядываешь кривой гвоздь в стене, мятые складки солнечника; начинаешь вертеть в руках спичечный коробок.
Да, именно: коробок спичек…
Хорошее название для рассказа.
Она достает «цивильные» сигареты – это те, которые с фильтром; протягивает мне, но я отказываюсь, предпочитая свою дешевую «Астру», которая и крепче и забористей. Медленно зажигаю спичку, и вот уже по купе раздается звук сизого дыма, и он начинает медленно скользить к открытому окну, потом, как бы раздумывая, выплывает в ночное небо…
Ташка-Наташка…



