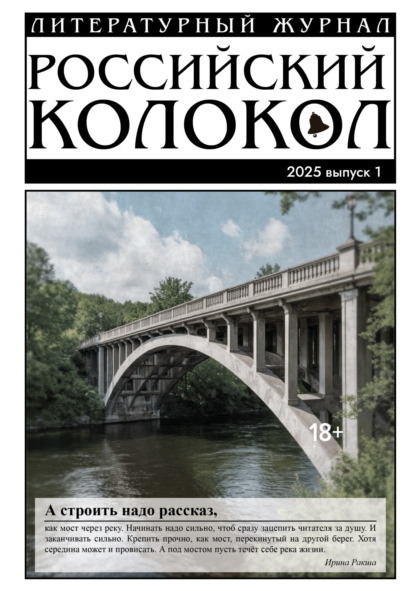
Полная версия:
Российский колокол № 1 (50) 2025
Как страшно, больно и одновременно противно стало Ивану в тот момент! Впервые он отнял у человека жизнь. Пусть это была жизнь врага, который сам, своими ногами пришёл сюда, чтобы растоптать нашу Родину, и не задумываясь лишил бы жизни самого Ивана. Но горечь и понимание бессмысленности и неправильности любого убийства человека навалились в тот миг на него и долго не отпускали. Да и отпустили ли?
Тогда ему не дали об этом долго раздумывать. Сбоку, вплотную к нему, выскочили ещё две тёмные фигуры немцев. Иван с ходу, вложив всю силу, двинул прикладом своего ППШ ближайшего к нему прямо в переносицу. Немец, не успев вскрикнуть, опрокинулся на спину. Второй напрыгнул на Ивана, обхватил его за шею и, сопя, как паровоз, прямо в лицо, начал его душить. Невыносимое зловоние ударило Ивану в нос. Падая и увлекая за собой противника, он вывернул и крепко перехватив обеими руками руку немца, заломил её. Он тянул и тянул немцу руку, а сам совершенно не представлял, что он будет с ним делать дальше. Немец взвыл от боли, но завозился под Иваном, выворачиваясь. Только тут Иван увидел, насколько фашист был крупнее и, очевидно, сильнее его. Всё могло бы кончиться в тот день очень печально для него, если бы не подоспевший их старшина, богатырь Николай Охримчук, разведчик. Старшина на бегу чётким ударом сапёрной лопатки успокоил немца. Это слово «успокоил» Иван потом часто слышал от самого Охримчука.
А тогда, цепко и оценивающе оглядев Ивана и валяющихся рядом в окопе фрицев, старшина буркнул ему:
– Жив? Ну, добре… – И побежал вперёд.
После этого боя Иван и попал в разведку, в группу к Николаю Охримчуку. Потом это многое определило в его военной судьбе.
Но это всё было потом.
Вспоминая это сейчас в госпитале, Иван так и не смог себе ответить: каков был его первый бой?
Может быть, его первый бой так и не заканчивается по сей день и ещё долго и долго ему продолжаться?
Был ли в нём тогда страх и есть ли он в нём теперь?
Конечно, он был и никуда не делся. Но Иван решил для себя, что он не будет больше бояться своего страха. Он старался использовать свой страх, перегоняя его в азарт, в злобу, в оживление и в быстроту реакции.
Конечно, страх на войне может быть разный. Бывает тупой и безотчётный, захватывающий человека целиком, парализующий его волю. Люди, подчинившись такому страху, в минуту опасности уже не могли вести себя достойно. Такой страх мог привести к несвоевременной смерти, приводил он и к предательству, и к дезертирству, и к самострелам.
Последнее особенно сильно поразило Ивана, когда он в первый раз увидел таких «раненых». Их было четверо, у троих отрублено по одному пальцу, у одного пулевое ранение в руку. Они говорили фельдшеру: «У нас над окопом разорвалась вражеская граната, и всех нас ранило, нас надо в госпиталь». Фельдшер, обработав им раны, взял линейку и тщательно замерил входное отверстие тому, у которого было пулевое ранение. Он, видимо, всё понял, потому что сразу позвонил в штаб дивизии и попросил прислать военного следователя. Следователь, когда пришёл, определил состав преступления – членовредительство. Приговор здесь был обычный – расстрел. Но его часто заменяли отправкой в штрафную роту.
Иван думал, что его страх смерти всё же был не такой слепой и безотчётный. К нему добавлялось что-то злое и упрямое, заставляющее его перешагивать этот свой страх.
Ещё в школе, когда он читал и перечитывал потом любимые батальные части «Войны и мира» Льва Толстого, ему врезалось в память описанное великим писателем отношение русских солдат к опасности во время войны с французами. Перед боем им было «страшно и весело».
Только потом он смог понять, как это, когда «страшно и весело». Он часто, думая об этом своём любимом необъятном романе, который был весь пропитан особой глубиной и правдой, примерял на себя описываемые в нём события и поведение главных героев: «А как бы я сам повёл себя в той или иной ситуации? Не струсил бы?»
Особенно он выделял в романе князя Андрея Болконского. Смог бы он так же, как князь Андрей, приказать себе: «Я не могу бояться»? Когда он спокойно, не обращая внимания на пролетающие над ним пушечные ядра, шагал под страшным огнём французов между своими орудиями и спокойно делал свою ратную работу?
Нет, как у Болконского, у него не получалось. Иван всегда «кланялся» пролетающим над ним минам и снарядам, бросался на землю, чтобы не быть зря раненым или убитым. Да и нельзя было по-другому на этой войне. И всё же очень хотелось быть как Андрей Болконский и страшно было оказаться Мечиком из фадеевского «Разгрома».
Рассуждая так о смелости и страхе на войне, Иван подумал, что такой человек, как Андрей Болконский, и может называться настоящим мужчиной. Хотя что это – «настоящий мужчина»?
Отец, провожая его на фронт, сказал: «Будь настоящим мужчиной…» Стал ли он таким? Ведь не мальчик он уже. Кто вообще может так называться?
Иван вспомнил, как стал мужчиной. Горячая, сладостная волна яркого воспоминания захлестнула его. «Оля, Оленька, любимая, – думал он, – без тебя не стал бы я мужчиной».
Он влюбился в неё ещё в школе. В её задорные, насмешливые, упрямые и очень тёплые карие глаза. В густые волны темно-русых волос, спадающих на немного по-мальчишечьи выпирающие острые плечи. Во всю такую тоненькую, словно сотканную из воздуха, но при этом необычайно подвижную, ладную и крепкую фигурку. В губы, в улыбку, в голос и заразительный смех. Для него всё в ней было прекрасным.
Это случилось у них под Новый год. В разгар их первой студенческой сессии. Сам он сдал досрочно все предметы в своём Механическом институте и теперь помогал Оле готовиться к экзамену по математике в Педагогическом. Уже несколько томительных вечеров они засиживались допоздна у Ольги дома. Часто, позанимавшись сначала немного математикой, они начинали целоваться за закрытой дверью Ольгиной комнаты и никак не могли остановиться.
А всё случилось в тот вечер, когда Олины родители, нарядные, встретили Ивана у порога. Они, одеваясь, весело наказали Ольге накормить Ивана ужином и не ждать их сегодня слишком рано: они уходят в гости и будут очень поздно, к ночи.
Они с Олей так и не притронулись к учебникам этим вечером.
Как только они очутились в Олиной комнате, неукротимый вихрь закружил их, подхватил и унёс на необычайную, захватывающую дух высоту. Их унесло туда, где туго переплелись их разгорячённые в неукротимом движении тела. Где перемешалось и стало общим их дыхание, стёрлись все очертания, все запреты и бывшие до этого границы. Всё в едином и общем, слившемся в одно целое ритме трепетало в них от нежности, от ласкового прикосновения. От неудержимого и требовательного натиска любви и единения двух душ и тел.
Потом они лежали, крепко обнявшись, и Оля неожиданно заплакала. Иван, растерявшись и испугавшись, начал неумело утешать её. Он целовал её мокрые щёки и то лихорадочно шептал ей, что они всегда будут вместе и он никогда её не оставит, то начинал беспрестанно спрашивать: «Что с тобой?» и просить перестать плакать. В какой-то момент, замирая от нерешительности, он хотел сказать ей самое главное, то, что давно собирался сказать, но никак не мог решиться. Он начал было, по своей привычке, считать в уме до пятидесяти пяти, но Оля уже улыбалась ему. Она начала целовать его, прижимаясь к нему своим мокрым, заплаканным лицом, ласково приговаривая:
– Какой же ты у меня ещё глупенький.
Потом, помолчав, озорно выпалила с ударением:
– Иволгин! Вот ты у меня кто!
С самой первой их встречи она продолжала так в шутку его называть. В такие моменты он в шутку щипал её за бок, делал страшные глаза и низким голосом начинал страшно шептать ей:
– Не называй меня так! Я не Иволгин!
Она всегда начинала смеяться и назло ему упрямо повторяла:
– Иволгин, Иволгин, Иволгин!
В такие моменты остановить её можно было, только закрыв ей рот поцелуями. Они оба это хорошо знали, и постоянно этот весёлый спор разрешался именно так. Завершился он так и тогда.
Иван помнил, как он глупо, совсем по-мальчишески, гордился на следующий день, что стал мужчиной. Весь следующий день он гордо ходил по улицам города, расправив плечи, со значением и вызовом поглядывал на прохожих, а встречным мужчинам умышленно не уступал дорогу, сталкиваясь с ними плечами.
«Каким тупым балбесом я был…» – подумал он.
Теперь он понимал, что стать мужчиной и стать настоящим мужчиной – разные вещи. Стал ли он настоящим мужчиной? Поумнел ли он с того времени? На эти вопросы Иван и сейчас не мог ответить однозначно и утвердительно.
Ему вспомнился его знакомый, земляк Митя Панков. Его родители работали вместе с родителями Ивана. До войны он несколько раз видел застенчивого долговязого паренька Митю, когда тот приходил к ним в гости со своими родителями. Они не дружили. Митя был младше Ивана и не особо общителен. В июне сорок первого он, приписав себе год, ушёл добровольцем на фронт.
Судьба свела их под Верхнечирским, где Митя был в передовом отряде. Этот отряд направили для ведения сдерживающих боёв до занятия главными силами их стрелковой дивизии рубежа Старомаксимовский – Верхнечирский. Воины передового отряда до темноты несколько часов сдерживали пытавшегося прорваться противника. Все они сражались яростно, до последнего. Когда подоспело подкрепление из бойцов роты Ивана, в живых оставалась горстка бойцов. Враг был отброшен. В результате этого боя фашисты потеряли убитыми более трёхсот солдат и офицеров, сожжёнными тридцать танков и один сбитый пулемётным огнём бомбардировщик.
Иван тогда наткнулся на раненого, истекающего кровью Митю, который лежал у разбитого пулемётного расчёта, вцепившись мёртвой хваткой в убитого им немецкого солдата. Он узнал его, но Митя долго не мог узнать Ивана. Оторвав Митю от мёртвого немца, Иван, наскоро заткнув тому бинтами из медпакета рану на груди, понёс его к санитарам. Митя умер на руках у Ивана. Перед смертью он постоянно что-то тихо бормотал. Прислушавшись к его неровному шёпоту, Иван смог понять, о чём шепчет Митя:
– Как обидно… Обидно умирать… Я ещё ни разу не целовался. Как обидно.
Сказав это, он закрыл глаза, чтобы больше уже никогда их не открыть.
Так погиб настоящий мужчина – боец Митя Панков.
Почему-то Иван подумал ещё и о том старшем лейтенанте, который выбежал к их разведгруппе. Тогда, в мае сорок второго, когда они получили от своего ротного задание провести разведку в соседней к их позициям деревне на предмет расположения там моторизированных частей противника. А если придётся, то и разведку боем.
Он не помнил подробно лица того старшего лейтенанта, но помнил, что оно было по-настоящему «мужским». При взгляде на это красивое, но бледное лицо старшего лейтенанта, оценивая, как он появился в их окопе, не возникало сомнений, что он струсил и бежал с поля боя. Но нельзя было не отметить мужественные черты его лица и крепкую фигуру. Наверняка он имел успех у женщин. Но очевидно, что настоящим мужчиной он не мог считаться.
Отмахнувшись от этого неуместного воспоминания, словно смахивая муху, Иван опять мысленно вернулся к Ольге.
«Самое главное» он решился сказать ей только через полгода, в мае. Это было предложение руки и сердца. Но если быть честным и точным, Иван ведь так и не сказал этого вслух. Тогда, в середине жаркого, ещё мирного мая, они были с Олей в кино. В самом конце фильма Иван, достав из нагрудного кармана авторучку, написал на клочке бумаги: «Оленька-лапулька, давай поженимся» – и сунул в её тёплую ладошку. Она развернула записку, прочитала и, засмеявшись, выхватила у него авторучку и чуть ниже его надписи дописала своим аккуратным учительским почерком: «Я согласна!» – и подписала: «Твоя будущая жена».
Как он был счастлив в тот вечер! Они словно на крыльях возвращались из кино. Весь город распахнул навстречу им свои объятья. А в городе этом живут только счастливые, добрые и удивительно красивые люди. И впереди у них с Олей будет много солнечных и счастливых дней. Теперь всегда всё будет тепло и солнечно.
Это был май сорок первого года. А в июне пришла война.
11Внешне с того самого дня, как пришла война, практически ничего не поменялось. Город жил, как жил. Потоки горячего воздуха всё так же каждым утром устремлялись на город сверху, нагревали его улицы, заплетённые затейливыми узорами дорожных петель. А вечером улицы начинали отдавать тепло. И уже вверх текли потоки распаренного воздуха, перемешанного с людскими мыслями, надеждами и устремлениями. Люди так же, как и улицы, постоянно вбирали, пропускали через себя, а потом отдавали тепло.
Несмотря на частичную эвакуацию многих предприятий, постоянный отток людей из города и то, что с середины июля сорок второго в городе формировались части народного ополчения, Сталинград пока что считался тыловым городом. Линия фронта многим казалась ещё далёкой. Непосредственная угроза не воспринималась как наступающая неотвратимая и суровая реальность.
Но сам город понимал, что скоро примет бой.
Он сделал свой выбор. От этого выбора теперь зависит не только его судьба. Судьба всей мировой войны, всего мира и человечества будет решаться здесь.
Время уже не играло особой роли. Оно текло сквозь город по-особому. Всё пространство вокруг Сталинграда было одновременно и разряжено, и наэлектризовано. Любая энергия и сила, входящая в соприкосновение с городом, сразу встраивалась в поток и направлялась на отведённое ей место.
Город видел, какое огромное количество человеческих судеб сплетается вокруг его судьбы. Город верил в людей и ждал. Как много их оказалось, готовых его защищать и отдать свои жизни за его жизнь! И это были не только те, кто жил в нём. К нему устремились и те, кто никогда раньше не ступал на его землю, и их было много. Очень много. Город готовился принять их всех. К нему с востока и запада непрерывным потоком двигались сотни и сотни тысяч, миллионы пульсирующих огней. Шли, чтобы столкнуться, смешаться, сойтись в ожесточённой битве. Битве, которая превзойдёт все прошлые битвы всех прошлых войн на земле.
Миллионы людей двести дней и ночей будут сражаться на территории почти в сто тысяч квадратных километров, и всё это будет объединять одно название – Сталинградская битва.
И люди, которые живут сейчас, и их потомки в будущем ещё очень много лет не смогут до конца понять и постичь великое значение и великую тайну этой битвы. Её истинное значение и скрытый временем смысл откроются людям лишь через многие годы после её окончания. Это случится после того, как город покинет и устремится ввысь последний огонёк – свидетель и участник этой битвы. Но откроется им эта тайна только при условии, что на земле не прервётся связь поколений, не умрёт священная память о великом противостоянии жизни и смерти. Память о той неизмеримо высокой цене, которая была заплачена. Память о тех потерях, о той великой жертве.
12Потери были огромными. Теряя людей, обновляясь пополнением почти на три четверти, они отступали в боях весной сорок второго к Дону. Прибывающее пополнение с ходу бросалось в бой, и часто бывало так, что уже к вечеру следующего дня прибывшие вчера новобранцы могли считаться опытными бойцами.
Но, конечно, никто из них, даже самые лучшие, не был в состоянии сразу понять чувства державшихся всегда немного отдельно «стариков» – тех, кто уцелел и давно воюет. Тех, кто немного свысока поглядывал на «новичков». Понять полностью их горечь, усталость и злость могли только те, кто всё это время или гораздо больше, чем другие, был рядом.
Так устанавливалась на фронте особая, незримая, но крепкая и нерушимая общность людей, вместе в полной мере хлебнувших на этой треклятой войне тяжкого воинского труда и горя.
Одним из таких «стариков», бесспорно, был их старшина. Украинец Николай Охримчук, или, как он сам иногда себя называл, Микола.
Это был человек во всех смыслах колоритный.
Николай Охримчук был, наверное, один такой на всю их дивизию. Высокий, громкий, атлетического сложения: под гимнастёркой валами перекатывались мускулы. В их роте он возвышался над всеми и «вверх», и, как многие шутили, «вширь». При этом он был необычайно быстр, ловок и подвижен. Дополняло эту картину открытое, добродушное, по-деревенски простое лицо и совершенно не идущие к такому лицу пышные, ухоженные, даже холёные усы. Своими усами Охримчук явно гордился.
Говорил он всегда по-русски, но иногда переходил на ту особую, необычайно красивую и мелодичную смесь украинского с русским. В лихие минуты опасности или гнева он мог полностью перейти на «рщну мову». Но делал это очень редко.
Легко было поддаться на эту его открытость и простоту, на его своеобразный юмор и обаяние. Но если внимательно приглядеться к Николаю, то можно было заметить, что из серых глаз его на всё вокруг смотрела глубокая печаль, перемежаемая вспышками холодного, колючего, полного притаившейся грозной силы огня.
Ещё в мирное время он три года срочной службы отслужил во флоте. Потом вернулся домой, где и застала его война. Николай воевал с первых дней этой войны. Старшина Охримчук был командиром их ротной разведгруппы.
Иван попал к Охримчуку на следующий день после того памятного для него боя. Он, закончив поверку своего отделения, сидел, прислонившись к холодному колесу раскуроченной немецким снарядом и брошенной пока на их позициях сорокапятки. Охримчук появился перед ним совершенно из ниоткуда, будто соткался вмиг из воздуха. Ни скрипа снега, ни единого движения Иван так и не заметил.
Хитро поблёскивая глазами, глядя сверху вниз на Ивана, Николай сказал:
– Не сиди на снегу: хрен себе отморозишь – плохо бегать будешь. – Он протянул Ивану фляжку. – На вот, глотни, согрейся.
Иван глотнул немного из протянутой ему фляжки. Глоток приятно обжёг и согрел его.
– А куда тут бегать? – усмехнулся Иван, возвращая Николаю фляжку.
– Куда-куда, в разведгруппе моей бегать будешь, – как нечто уже давно решённое и не подлежащее обсуждению ответил Охримчук. – У меня, не бойсь, не замёрзнешь!
– Да я и не боюсь, – отозвался Иван. – В разведгруппу, так в разведгруппу. Я согласен. Когда начинаем?
– Вчера уже начали, – засмеялся Николай.
Разведгруппа была на особом положении в роте, в какой-то мере – независимом от общего распорядка. Но и задачи она выполняла особые. После выполненного задания бойцам-разведчикам часто давали возможность нормально отоспаться, что редко встречается в пехоте. Старшина Охримчук был умелым разведчиком и всех семерых бойцов своей группы обучал, хорошо видя и понимая, на что каждый из них способен.
Каждый из группы имел собственный позывной.
Охримчук был мастером раздавать всем прилипчивые прозвища. Как-то раз он назвал бойца, опрокинувшего на привале на себя свой котелок с кашей, Горшком. Так и прицепилось к тому это прозвище, и вскоре никто не мог уже припомнить ни имени, ни фамилии того бойца. Горшком для всех он и остался. Когда его, тяжелораненого, отправили в медсанбат, а оттуда в госпиталь, то так, говорят, и записали в ротной сводке, что по ранению убыл от них Горшок.
В их разведгруппе худой Жорка Васильев из Арзамаса получил позывной Шило, коренастый киргиз Айбек Мусаев почему-то имел позывной Феликс. Но со временем Иван понял, что каким-то непонятным образом именно имя Феликс ему удивительно подходило. Был у них и Флакон – сибиряк Серёга Братов, и Кирпич – квадратный богатырь Женя Ряхин. Юркий, невысокий москвич Костя Бакашов был Кошеней. Был у них и Монах – Кирилл Александров.
Случай с Монахом был особенный. Охримчук, иногда ругаясь, называл Кирилла и Попом, и Поповичем. А распекая за что-то Александрова, иронически вворачивал к нему обращение – святой отец. А всё потому, что, как выяснил потом Иван, боец-разведчик Александров был верующим человеком, постоянно читал молитвослов, напечатанный в маленькой книжице, и носил под гимнастёркой нательный крест и ладанку с небольшой иконой.
Само по себе это было не удивительно. Среди бойцов много встречалось верующих людей. А по меткому замечанию старшины, во время бомбёжки или артобстрела почти все бойцы становились верующими. Действительно, когда над головой оглушительно рвались снаряды, Иван, как и все остальные в окопе, то отчаянно матерился, вжимаясь в землю, хотя сильно не любил мат и старался никогда не сквернословить, то совершенно неожиданно для себя начинал звать маму. Но всегда наступал момент, когда он начинал молиться Богу о спасении или об окончании обстрела. Всё зависело от длительности и от силы бомбёжки или обстрела.
Но он всё же был воспитан атеистом и поначалу удивился, как верующий человек мог оказаться в их разведгруппе. Всем этим Александров вызывал в нём сильный интерес. Поэтому, сойдясь потом поближе, они часто, когда появлялась возможность, подолгу разговаривали.
Старшину наличие в разведгруппе религиозного человека ничуть не смущало. Его больше всего удивляло, что ни Иван, ни Кирилл, ни Айбек совсем не курили. Иван попробовал курить ещё в школе, потом он вполне осознанно от этого отказался и никогда больше не курил. А Монах вместе с Феликсом, похоже, и не пробовали ни разу.
– Ну як же так можно? Шоб на войне та и не курить! – часто нарочито громко возмущался старшина, глядя на Ивана с Кириллом. Но при этом неизменно добавлял: – Оно для разведчика, пожалуй, привычка курить действительно вредна. А то и смертельно опасна.
Охримчук иногда с иронией, ворчливо отзывался о своей разведгруппе, повторяя:
– Ну шо за вагон мне достался, сплошной интернационал, та ещё и для некурящих!
Иван тоже получил свой позывной. Ткнув его в грудь, Охримчук тогда просто сказал:
– Ты будешь Волгой.
– Как Волгой? – опешил Иван. – Это ведь женское имя!
Охримчук, побарабанив пальцами, словно молоточками, по его груди, широко улыбнулся, обнажая белые ровные зубы, и повторил с нажимом:
– Ты – Волга.
– Скажи ему спасибо, что он тебя Царицей не назвал, сталинградец, – хохотнул присутствующий при таком наречении Ивана Шило.
– Ну спасибо, Дед, – ответил Иван.
Все в группе за глаза, да и в глаза тоже, звали Николая Дедом. Он и не соглашался на это, и не запрещал так его звать.
Старшина был гораздо старше каждого из разведгруппы. Иван предполагал, что ему больше тридцати лет, но точного его возраста никто из них не знал. По самому Николаю это было невозможно понять. Его вполне можно было назвать человеком без возраста. Так причудливо уживались в нём суровость, опыт и твёрдость с его лёгким нравом и какой-то молодецкой удалью.
Иван многому научился у Николая. И как правильно, по-особому, наматывать портянки, и как приладить к ноге на специальном ремешке чехол-ножны для ножа. Как подавать друг другу сигналы в лесу, в поле и как долго, часами сидеть неподвижно в засаде, прятаться и бесшумно приближаться к противнику. Как его, этого противника, правильнее, если это требуется, скрутить, связать и нести потом на себе одному или вдвоём с напарником. Как вставить «языку» в рот кляп, чтобы тот не мог его выплюнуть и подать голос. Он подробно рассказывал Ивану и другим бойцам разведгруппы, какие мины могут им встретиться, когда пойдут в разведку, и на что обращать внимание, чтобы их распознать.
– Сапёры нам, конечно, хорошо помогают, но самим надо быть внимательнее и смотреть, где ямка, где бугорок, а где трава пожухлая. Там мины и могут быть, – говорил им Николай и добавлял: – В разведке, хлопцы, мелочей нет. Малейшая ошибка – смерть.
Многое объяснял им старшина. Часто он назидательно поучал их:
– Никогда не забывайте о том, что немцы – сильные вояки и очень хорошо подготовлены.
Он твердил им постоянно:
– Нельзя недооценивать противника. Особенно в рукопашной. Самое страшное и опасное на войне что? – задавал он им вопрос и тут же сам на него отвечал: – Это не бомбёжка, не миномётный обстрел и не когда жратвы нет, Флакон! – старшина резко обратился к жующему здоровяку Серёге, любившему крепко закусить и бывшему постоянно голодным по этой причине. – Бомба или мина, она дура: либо упадёт на тебя, либо не упадёт. А в рукопашной только и видно, что ты из себя представляешь. Тут выход только один: либо ты, либо тебя. Другого не дано. И запомните, рукопашная – это вам не мордобой какой-то, не просто драка. И не надо чем попало драться.
И не как Волга надо драться, тут тебе мало помогут все приёмчики да стойки боксёрские. Да и прикладом, как Ваня наш любит, драться не стоит. В серьёзной рукопашке кто ж тебе нормально замахнуться-то даст? Не успеть, братцы. Не даст тебе немец нормально замахнуться, не будет он ждать тебя. Поэтому винтовка или автомат в рукопашной за спиной должны висеть.
И вообще, Волга, к тебе персонально обращаюсь, прикладом от ППШ старайся не бить. Предохранитель ненадёжный у автомата. Вдаришь так, а он сам стрелять начнёт. Самопроизвольно. Да ещё и не одиночными, а сразу очередью. Смекаешь, как хреново может получиться?



