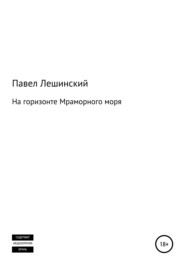 Полная версия
Полная версияНа горизонте Мраморного моря
– Архаичные – не значит, не верные. Попробуй понять, о чем я. В вере важна не форма, а устремление. А, что мир подл, так он и добр также. И чтобы в нем не подлость множить, а добро и радость, нам, для начала, нужно победить подлость в нас самих.
Алексей с сомнением покосился на Адама.
– Да-да, ты не ослышался. Чтобы ее победить, ее надо уметь выявлять. И выявлять ее надо в себе. Пока мы не признаем, что и она часть нашей сущности, мы не сможем задушить ее.
– Но как же это сделать? Мне бы тоже этого хотелось, – задумчиво произнес Петр.
– Сложный и важный вопрос. И ответ на него не может быть простым. Мне думается, начать надо с того, что набраться смелости и взглянуть внутрь себя. Отыскать там всю низость и ложь, что одолевает. Не надо бояться отвращения к самому себе. Это начало новой жизни и очищения. Как сделать это в каждом конкретном случае, не берусь сказать. Это путь совершенствования души. У каждого он свой. Каждому Бог дает свои возможности и силы.
– Ну, хорошо. Допустим так, – нервно согласился Алексей. – Но можешь ты хотя бы сказать, отчего мерзость, ложь и зло берутся?
– Такова уж природа жизни. Добро и зло непрерывно присутствуют в ней. Ты чувствуешь зло и оно тебе неприятно. Ясно, оно доставляет тебе боль и вред. Тебе или другим. Но отчего же иные ненавидят добро? – спросишь ты. На этот вопрос, выскажу предположение. Это те, чья душа не развита, примитивна, не вполне человечна. Они способны воспринять лишь добро для своего тела. Их не смущает зло, причиненное соседям, тем более, если оно может послужить на якобы благо собственной персоне. А также, это те, кто не развит в должной мере умственно, и не в состоянии постигнуть того, что добро не может твориться через зло. Зло как проказа. Очень заразно.
– Вот еще! А как же бороться с несправедливостью, с тем же злом, наконец? Ведь сами они, на попятный, никогда не пойдут. – Алексей недоумевал.
– Тема слишком серьезная, чтобы освятить ее за чашкой чая, но время у нас есть, так, что попробуем разобраться. Для начала определимся с понятиями, а потом наметим пути к разрешению вопроса. Что есть добро и зло? Вопрос может показаться и простым и сложным. Как бы там ни было, он очень важен для людей. Нащупать сущность этих почти метафизических понятий стремилось большинство известных нам мыслителей древности. Интересно, например, отношение к этой теме Эпикура и Сенеки. И все-таки, думаю, не в их учениях нашла себе пристанище истина. Впрочем, не будем забегать вперед. В большинстве случаев, в зависимости от того, как мы понимаем эти набившие оскомину слова, формируется наше поведение.
Согласитесь, что рассматривая их как моральные категории, можно сказать, что их правомерно употребить лишь в отношении всего живого. Так, по отношению к людям, животным и растениям, даже ребенок, без труда, сможет указать, что есть добро для них.
Он скажет, что покормить кошку, полить цветы, пожалеть страдающего человека – есть доброе дело, т.е. добро. Таким образом, дело направленное на благо того, кто способен его почувствовать, есть доброе дело или добро. Неживая природа не способна, как мы считаем, что либо по чувствовать, а тем более оценить, поэтому совершенно бессмысленно говорить о добре по отношению к ней. Зло же, как моральную категорию, можно определить по аналогии, как действие направленное против блага чего либо живого.
– А можно ли вообще говорить о добре и зле как об объективных понятиях?– оборвал вопросом речь Адама Петр.
– Действительно. Твое сомнение законно и его также многие разделяют. И первого, кого уместно вспомнить по этому поводу – Марк Аврелий. Все мы воспитаны на этих двух морально нравственных оценках. Воспитаны то воспитаны, но смысл вкладываемый в эти два простых слова, ты прав, не у всех, одинаков. В какой то степени, из-за этого и поведение людей может так разительно отличаться. Следует заметить также, что, по сути, добро и зло – вещи неразделимые. Неразделимые, но различимые, поскольку в одном и том же деянии, зачастую, замечаются отблески обоих.
Потому, как добро направлено на благо, а зло против блага, их также можно определить, как созидающее и разрушающее начало. Но существует ли созидание в природе, которое каким либо образом не разрушало, другой рукой, то, что уже существовало ранее и не нанесет чему-нибудь ущерб впоследствии? Скорее всего, нет. Но человек, тем не менее, оперирует этими понятиями, выбирая для себя приоритетные стороны т.е. то добро, которое для него наиболее очевидно. Такова природа человека и он не в силах отказаться от нее. В идеале, как считали некоторые восточные философы, например Лао-Цзы, чтобы не делать зла, нужно вообще ничего не делать. Понятно, что для живого существа такой путь невозможен.
Даже страдание, причиненное человеку, может иметь двойственную оценку. Причиняющий страдание, безусловно, по человеческим понятиям, совершает зло, но страдающий мучающийся человек не всегда озлобляется и становиться хуже. Мудрый и мужественный становиться только мудрее, и получает даже некоторую закалку. Мучения, перенесенные им, учат его через боль сочувствию. Конечно, это более редкое явление и гораздо более сложное и высокое, чем заурядная жажда мести и ненависть, но и оно имеет место.
Осмелюсь сказать, как не парадоксально это прозвучит, что боль и страдания полезны только добрым и мудрым по природе своей..
Зло же, совершаемое кем либо, из невежества и душевной грубости, не будет в свою очередь, как не досадно, прочувствовано, сделавшим его. Он лишен угрызений совести, даже напротив, может испытывать радость, дикое чувство удовлетворенной справедливости и искренне полагать, что совершил добрый поступок. Поэтому зло, исходящее от него можно рассматривать, как неосознанное, а значит, даже, в каком-то смысле, происходящее по объективным причинам. Это умозаключение будет справедливо совершенно, только с оговоркой, что сделавший дурной поступок, не осознает и впоследствии своей ошибки, и не будет в дальнейшем раскаиваться в содеянном.
– Хм, -скептически усмехнулся Петр,– В таком случае, для себя самого, ему лучше поменьше размышлять и осознавать, что бы то ни было. И оставаться, насколько возможно, на самой низкой ступени развития.
– С точки зрения вульгарного материализма, это именно так. Но все же, позволь заметить, это уже не зависит от человека.
Петр благосклонно согласился, слегка кивнув головой.
– Таким образом, из вышесказанного можно вывести, что зрелая личность, она сама, ее сознание – и есть основной цензор доброго и злого. Окружающие, конечно, делают выводы и судят человека. Их представления и мнения влияют на его нравственные переживания, но в конечном итоге, переживать его, по настоящему, заставляют его собственные оценки событий, пускай и сложившиеся, в какой-то степени, под влиянием посторонних. С другой стороны, для человека, стремящегося к добру, крайне важна реакция людей на его действия. А для того, чтобы его благие намерения не повлекли за собой противоположного результата, ему просто необходимо безошибочно чувствовать тех, на кого он сам влияет. В этом ему неоценимую услугу оказывает воображение – качество, данное от природы, позволяющее представить себя на месте другого, найти в себе мир переживаний другого человека. И, конечно же, нельзя не упомянуть, в связи с этим, роль самосовершенствования в понимании мира и людей. Без развитой способности тонко чувствовать и понимать самых разных людей, невозможно преуспеть и в благодеянии. Важность этой способности становиться яснее, когда вспоминаешь о том, что любое деяние имеет двойственную природу. И в помощи, надо быть осторожным и деликатным.
Постараюсь быть более наглядным. Рассмотрим пример с двумя поставленными на грань голодной смерти мужчинами. Представим, что они оказались на безлюдном острове, лишенном растительности и всего того, что могло бы помочь им прокормить себя. Только один спасательный жилет и жалкие остатки пресной воды во фляге – единственный призрачный шанс, чтобы помочь одному из них спастись, добравшись до большой Земли. Как мы расценим происшедшее, если в такой ситуации сильнейший завладеет спасательным жилетом и водой, и уйдет с острова? В животном мире подобный исход мы нашли бы естественным. Но как оценить поступки людей? То, что для одного благо и добро, для другого оборачивается злом. Ведь, зачастую, человек, не в состоянии поступить во благо себе и другому, одновременно. Действуя во благо своей собственной физической природе, почти всегда, он наносит ущерб или лишает блага иную природу человеческую, животную либо растительную. Таким образом, возникает томящая сердце мыслящего, нравственная неудовлетворенность, присущая, на мой взгляд, лишь человеку. Конечно, мы знаем, что и животные жертвуют своим благополучием ради детей, клана, хозяина, но вряд-ли это – их осознанный выбор, решение вызванное сочувствием, сопереживанием, состраданием. Это, скорей всего, – простой инстинкт. У человека же, именно сознание (совесть) часто определяет его поведение, нравственные переживания для него – нормальное явление.
Так кого-же люди назовут добрым? Того, кто ищет только личного благополучия ? Нет, такого, скорей, напротив, назовут злым потому, что им он причинит только зло. Того же, кто пренебрегает самим собой во всех отношениях, ради блага других, наверное, сочтут самым чистым и добрейшим праведником. Впрочем, если ему удастся прожить хоть сколько-то значительное время.
Как мы выяснили, именно совесть определяет поведение людей, степень и пути стремления их к добру.
Задумаемся же на минуту, что такое совесть. Считаю, прежде всего, это – способность к сочувствию, состраданию, но и в то же время – осознание, интеллект. Хотел бы заметить, здесь, что без второго, невозможно наличие первого. Потому, как при полном отсутствии понимания, осознания, невозможно воспринять что либо, в том числе, и сам объект.
– Но понимание также невозможно без сочувствия, – прервал вновь Петр.– И тут же берусь вам это доказать. Припомню твое высказывание, Адам, о том, что сочувствие базируется на воображении. Но может ли некто обладающий пониманием, осознанием, интеллектом быть начисто лишен воображения? Ведь это – абсурд, не правда ли?
– Замечание интересное. Но я никогда не говорил, что воображение и сочувствие суть одно и тоже. К сожалению, существуют личности, бесспорно обладающие бурным воображением, при этом, получающие наслаждение от издевательств над другими. Так, что опровергать существование злого разума я не буду.
Но отвлечемся от грустного. Из сказанного напрашивается вывод: в стремлении к добру тот может добиться, для себя, наибольшего успеха, кто совершенствует свой разум, как своего проводника к заветной цели. Ведь иной раз, мало желать добра, но надо уметь понять, что именно будет добром, для того, кому ты его желаешь. Здесь, я думаю, самое время поразмышлять о добре, как сочувствие, чувствах вообще и интеллекте. Прислушавшись к самому себе, рискну утверждать, что первому, чему обязан человек в пассивном восприятии мира, это – ощущениям, переданным органами чувств. Эти первичные ощущения, то есть, информация, полученная от органов восприятия, обрабатывается интеллектом, разумом, сознанием. В процессе этой обработки возникает то, что мы привыкли называть чувством, и наконец, интеллект довершает уже обработку этой информации, формулируя ее словесно. Т.о. появляется мысль. Что же получается? Мы видим, что формирование чувства человека, и как результат, его мысли, неотделимы от интеллекта. Из этого, вполне естественно, следует то, что человек совершенствующий свой интеллектуальный уровень становиться и более восприимчив, его чувства становятся тоньше, по мере развития его ума. И наоборот, воспитание тонких чувств – хорошая предпосылка для развития интеллектуальных способностей.
Я бы сказал еще, что любое высокое чувство, это – вторичный продукт, появляющийся в процессе обработки через мозг, информации, полученной от органов чувств.
Хорошо. С чувством более или менее выяснили.
Но ведь чувство и сочувствие далеко не всегда идут рука об руку. Чувствительный и умный не всегда сочувствующий, добрый. Да, суть доброе начало в человеке, сочувствие, может практически отсутствовать и в умном, и в чувствительном. Но осмелюсь утверждать, что если же оно имеется в достаточной мере, то чувствительность и интеллект – качества, которые помогут ему этому началу раскрыться и достигнуть новых высот.
Может показаться парадоксальным, что делающий добро другим, по нашим понятиям добрый человек, сам себе, при этом, наносит вред, причиняет зло. Но это только на первый взгляд. Творящий добро сознательно, понимает, что даже действуя во вред своему телу, он получает моральное удовлетворение. Оно, для него, во много раз ценнее. И даже, порой, способно укрепить его и физически, поскольку физическое здоровье тесно связано с душевным.
Итак, подведу итог: нравственное развитие человека немыслимо без его интеллектуального развития.
Знаю, в этом месте, со мной очень многие могут не согласиться. В первую очередь, это – люди религиозные. О них я скажу позднее, но также и так называемые материалисты, совершенно правомерно выскажут сомнения.
– Я, например, замечу, – вновь взял слово Петр, – что среди талантливейших, если не гениальных людей, была и есть масса дьявольски безнравственных. Как это увязать с тем, что сказал ты?
– Прекрасно. Твои слова – типичная иллюстрация непонимания. Тебе, как и моим верующим оппонентам, отвечу: совершенствование разума делает нравственней тех, кто изначально имеет и дорожит зерном добра. Таким людям пренебрегать разумом все равно, что пренебречь самим добром. Пренебрежение же нравственностью, как таковой, взгляд на нее, как, например, на еще один инструмент для организации общества, ведет к вульгарно-материалистическому цинизму и, в результате, – к злу. Действительно, материалисты в большинстве своем, во всем видят природный рационализм. Рационализм в чистом виде, без морально-нравственных пут, которые создаются, сильными интеллектуально и физически, лишь с целью обеспечить себе стабильное доминирующее положение, спокойную жизнь, возможность пользоваться львиной долей земных благ, с минимальными для себя затратами.
Наиболее дальновидные философы и политики от этой братии понимают, что для того, чтобы все, как можно дольше, оставалось на собственных местах, сильным мира сего, необходимо не только подчинять большинство своим интересам, но и большинству дать реализовать свои мизерные интересы. Сильнейший и способнейший выберется наверх, слабейший будет барахтаться внизу. Пресловутое "выживает сильнейший". Трудно не согласиться с тем, что таковое положение дел в мире существует. Но при этом, никто меня не убедит в том, что не существует на Земле чувства сострадания, что гуманность – пустые слова и демагогия. Наверное, Ницше и иже с ним сказали бы, что гуманизм – не что иное, как плод человеческого воспитания, а релятивисты добавили бы, что в разных частях света, в разное время, понятие гуманности принимает самые причудливые формы, а то и вовсе отсутствует. Я скажу на это: формы – да, и уровень гуманности, у различных народов, в разное время, действительно, разный.
Но корни гуманизма, нравственности, добра, мы найдем повсюду, где есть человек.
Кроме того, наблюдая за целыми народами и государствами, можно отметить, что самые передовые из них в научно-техническом смысле, часто являются и наиболее продвинувшимися и в смысле гуманности. Здесь, надо оговориться. Я, ни в коем случае, не хочу сказать, что зависимость прямая. Не хочу, чтобы слова мои вы истолковали таким образом, что, например, если Америка сейчас самая сильная, в экономическом смысле держава, то ее политика всегда нравственна и гуманна. Связь здесь несколько иная. Развитые индустриально государства, с высокоорганизованными социальными структурами: образовательной и медицинской, способствуют появлению в этих странах мыслящих, воспитанных на гуманистических ценностях людей. Там, есть условия для появления людей, чей интерес – не просто выжить, но и задуматься над жизнью. В этой стране, добрый от природы, человек, имеет больше шансов преуспеть.
– Хорошо. А как же Руссо со своей тягой к дикой природе?– слегка недоумевая, произнес Петр.
–В самом деле, Руссо высказал парадоксальную мысль. Не боясь быть оригинальным, он заявил: "Наши души развратились по мере того, как шли к совершенству наши науки и искусства. И вот теперь кому уже не ясно, что личность не находит места в структуре человеческой самости; человек оказывается вне самого себя. Такая потеря – следствие общественной бездуховности, когда права индивида попраны, растрачены, обесценены."
От себя, могу поддержать великого гуманиста.
– Но ведь на лицо явное противоречие?
– Только при поверхностном рассмотрении. Почему – попытаюсь объяснить после еще одной блестящей его цитаты из "Рассуждений о происхождении и основании неравенства среди людей":
"… Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: "Это – мое." и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких бы преступлений, войн убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: "Остерегайтесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли для всех, а сама она – ничья". Но очень похоже на то, что дела уже пришли тогда в такое состояние, что не могли больше оставаться в том же положении. Ибо понятие "собственность", зависящее от многих понятий, ему предшествовавших, которые могли возникнуть в человеческом уме. Нужно было достигнуть немалых успехов, приобрести немало навыков и познаний, передавать и увеличивать их из поколения в поколение, прежде чем был достигнут этот последний предел естественного состояния…"
Из сказанного ясно, что Руссо всеобщий прогресс, развитие наук и искусства связывает с развитием общества, с возникновением социальных факторов, которые помимо благотворного влияния на людей оказывают и разлагающее.
Хотел бы обратить ваше внимание, что этот первый, который сказал "мое", нашел "простодушных". Т.е. грубых и бесхитростных, а такими, надо полагать, в те далекие времена, были практически все. Человек – существо социальное и то, что происходило – естественный процесс его развития и, соответственно, общества, в котором он жил. Неприглядные стороны этого развития Руссо не преминул обозначить: "Ненасытное честолюбие, страсть к увеличению относительных размеров своего состояния, не так в силу действительной потребности, как для того, чтобы поставить себя выше других, внушает людям низкую склонность взаимно вредить друг другу, тайную зависть, тем более опасную, что желая вернее нанести удар, она часто рядиться в личину доброжелательности, словом, состязание и соперничество, с одной стороны, противоположность интересов с другой, и повсюду скрытое желание выгадать за счет других. Все эти бедствия – первое действие собственности и неотделимая свита нарождающегося неравенства". В целом, трудно не согласиться с тем, что неравенство и зло росло вместе с прогрессом. Но откуда он взял, что равенство между людьми вообще, когда-либо существовало? Не было такого имущественного и социального контраста, да. Но равенства, при условии, что уживались вместе сильный и слабый откуда могло быть? Неодинаковость людей очевидна, но превращается она во зло не по причине прогресса, а по причине их моральной неразвитости или извращенности. Ведь грубость и дикость уж никак не есть добродетель, с высоты нашего сознания. Разве можем мы самостоятельно определить момент, в который человек попал под власть зла? Мы знаем, что дикари некоторых стран и теперь могут употреблять в пищу себе подобных, а это, с точки зрения большинства цивилизованных людей, мягко говоря, безнравственно.
Не гнездиться ли это зло в самой природе человека, также впрочем, как и добро? Здесь, предлагаю моим гипотетическим оппонентам, если такие найдутся, следует либо отказаться от идеи и ценности нравственности, либо все таки признать, что это понятие развивалась вместе со всеобщим прогрессом. Именно поэтому, я совершенно не согласен со следующей мыслью Руссо: " До тех пор пока люди довольствовались своими убогими хижинами, пока они ограничивались тем, что шили себе одежды из звериных шкур с помощью древесных шипов и рыбьих костей, украшали себя перьями и раковинами, расписывали свое тело в различные цвета, совершенствовали и украшали свои луки и стрелы, выдалбливали с помощью острых камней какие-нибудь рыбачьи лодки или грубые музыкальные инструменты, словом, пока они были заняты лишь таким трудом, который под силу одному человеку, и только такими промыслами , которые не требовали участия многих рук, они жили, свободные, здоровые, добрые и счастливые, насколько они могли быть такими по своей природе и продолжали в отношениях с собой наслаждаться всеми радостями общения не нарушавшими их независимость."
Я склонен думать, что прогресс одной рукой, усиливает злонравие в обществе, делая его более изощрённым, другой же, побуждает людей к совершенствованию добродетелей для противостояния злу. Не развивая свой ум, добродушный, но неискушенный человек, в так называемых цивилизованных странах, подвергается опасности стать не только пешкой и жертвой злодеев, но и сам, того не ведая, может способствовать злу и совершать злодейства. Ни для кого, ни секрет, что уже давно мир живет единой жизнью. Цивилизация, в той или иной степени, распространилась повсюду, поэтому такое положение дел касается всех людей. И граждане мира, если им не безразлична нравственная сторона их поступков, должны постоянно развивать свои чувства посредством образования, чтобы не оказаться втянутыми в заблуждение и зло. В этом вопросе, конечно, самое важное – верно найти учителей. Ведь, в большой степени, от них будет зависеть, каким путем пойдет ученик. Но, в любом случае, самое главное – выбор самого человека, умение следовать за своей совестью. Поэтому, я думаю, учителя должны учить не своему взгляду на жизнь, как правильному, а учить прислушиваться к голосу собственной совести, привычке прислушиваться к нему, умению разбираться в собственных чувствах, ну и, конечно, мужеству следовать своим убеждениям. Только в этом случае, путь учеников будет путем их собственного познания мира и сознательным стремлением к добру. Тому же, кто глух, в нравственном смысле, не помогут и самые настоятельные благие увещевания.
Итак, интеллектуально-нравственный прогресс можно определить, как процесс перехода от положения почти отсутствия всяких морально-нравственных понятий к познанию таковых, и таким образом, появлению их в человеческом обществе. Вольтер, со свойственным ему сарказмом, подметил в письме своему именитому другу Руссо: "Вы единственный, кто употребил столько ума, чтобы постараться сделать нас животными…" Но самое интересное, что в дальнейшем, сам же Руссо принимает практически противоположную точку зрения: "Хотя в состоянии общественном, человек и лишается многих преимуществ, которыми он обладает в естественном состоянии, но зато он приобретает гораздо большие преимущества – его способности упражняются и развиваются, мысль его расширяется, чувства его облагораживаются, и вся его душа облагораживается до такой степени, что если бы злоупотребления новыми условиями не низводили его часто до состояния более низкого, чем то, из которого он вышел, он должен был бы беспрестанно благословлять счастливый момент, вырвавший его навсегда из прежнего состояния и превративший его из тупого ограниченного животного в существо мыслящее, в человека."
Таким образом, Руссо, в конечном итоге, согласен с защищаемым мной тезисом. При этом, истинно верующим христианином, Руссо скорее не был. Он раскаивался в этом, впоследствии, но, хоть и говорил, что верит в Бога, в то же время, утверждал, что "христианство проповедует лишь рабство и зависимость. Его дух слишком благоприятен для тирании, чтобы она постоянно этим не пользовалась. Истинные христиане созданы, чтобы быть рабами, они это знают, и это их почти не тревожит; сия краткая жизнь имеет в их глазах слишком мало цены". Не хочу это оспаривать прямо сейчас, но постараюсь, теперь, обосновать тезис о том, что нравственное развитие человека зависит от его интеллектуального развития, и с точки зрения Христианской религии.
Под нравственными людьми, я понимаю тех, кому свойственно чувство сострадания, чувство, которое есть корень добра, основа гуманности. Без принятия безусловной ценности нравственности человека, нет смысла рассуждать о пользе интеллектуального развития. Очевидно, что, тем, кто не имеет и крупицы сострадания, добра, зачатков нравственности в себе, не из чего его и развивать. Развитый интеллект такого существа будет интеллектом циника. Необходимо, с другой стороны, также отметить, что люди желающие расти морально, должны также обладать и неким минимальным интеллектуальным потенциалом, ведь в противном случае, также бессмысленно будет говорить об их интеллектуальном, а соответственно и нравственном прогрессе. Казалось бы, ясно, что развитый умственно человек, в поиске сделать добро, будет надежнее защищен от возможных ошибок, чем человек недалекий, хотя и имеющий те же устремления. Первый, как личность способная разбираться в окружающем мире, правильно интерпретирует, больше замечает, острее чувствует, адекватнее реагирует, в итоге, больше понимает.

