
Полная версия:
Не сдаётся душа

Леонид Абросимов
Не сдаётся душа
© Абросимов Л. А., 2024
© Верстка. ИП Бастракова Т. В., 2024
От редактора с любовью
Готовя к печати произведения Леонида Абросимова сначала в альманахах «Нижегородский литератор», «Российский литератор», а теперь вот и отдельной книгой, я по долгу службы перечитал их многократно, и мне не надоело.
Их можно не только читать, но и перечитывать. Это литература не одноразового употребления. Над этими, на первый взгляд, вроде бы бытовыми зарисовками хочется подумать, пересказать их другим. А это признак подлинной литературы, свойство настоящего таланта.
Конечно, они неоднородны по литературному качеству, но всегда искренни, живы, человечны.
Леонид Абросимов написал и оставил потомкам документ эпохи, без учета которого время, в котором жил автор и его современники, будет недостаточно красочным и объемным.
Автор приглашает вас вспомнить, как строилось горьковское (нижегородское) метро. Читателя ожидают занимательные и интересные рассказы и информация, которую кроме строителей метро мало кто знал. Автор лично принимал участие в этой действительно неординарной стройке, поэтому рассказы написаны от первого лица и достоверны. Рассказы расположены таким образом, что каждый является как бы продолжением предыдущего.
Сборник содержит рассказы о событиях и людях. О нас с вами, о ситуациях и случаях, которые происходят ежедневно на дорогах нашего города и не только…
Вслед за известным российским публицистом мне хочется сказать: «Мы жили в великую эпоху!» – и свидетельства Леонида Абросимова, запечатленные в этой книге, тому доказательства.
Ему нелегко пришлось в жизни. Он много трудился и физически, и душевно, никогда не сдавался обстоятельствам, следуя завету другого нашего классика: «Душа обязана трудиться!»
И на этих страницах перед вами, читатель, раскрывается душа настоящего русского человека, доброго, прямого, сильного, по-доброму лукавого, с чувством юмора, преодолевающего все жизненные преграды.
Прочитайте, не пожалеете!
Владимир Терехов, писатель, редактор альманаха «Российский литератор», член Координационного совета Российского союза профессиональных литераторов, заслуженный работник культуры Российской ФедерацииК сожалению, Владимир Михайлович не дожил до выпуска этого сборника рассказов, но его дело и его мнение продолжают жить!
Сказ про то, как строили метро
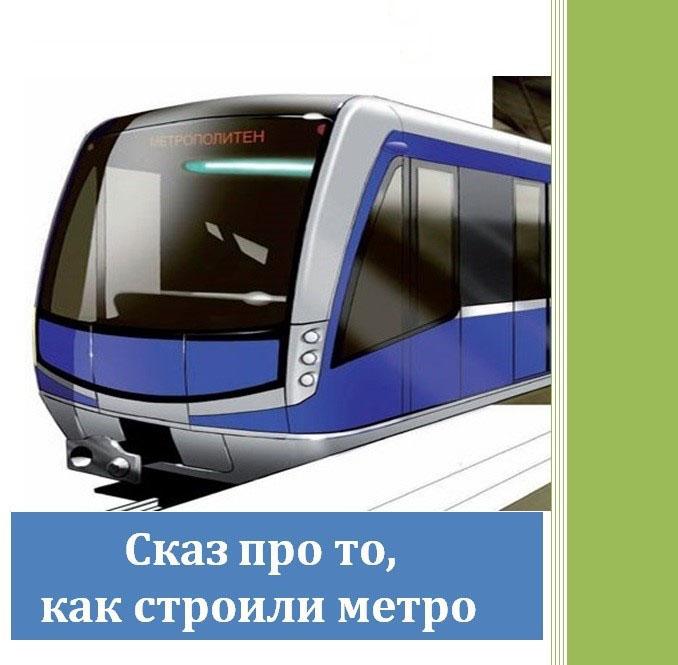
Сказ про то, как строили метро
О строительстве метро в г. Горьком, о людях, строивших его, об интересных случаях и многом другом – непридуманные истории
Где и что, как и кто, почему и столько, когда и сколько
Многие из нас обижались на то, что их называли снабженцами. Но в народе всё равно нас так называли, так куда деваться, пусть будет так. Говорят, кто проработал в снабжении год, может работать в разведке. Из тех, кто занимался обеспечением, снабжением горьковского метростроя, можно составить целую разведроту. Хочу вас сразу предупредить, что разговор у нас пойдёт неофициальный, да и времени уже прошло порядочно, многое изменилось с тех пор: и страна, и люди. Многих, к великому сожалению, уже нет в живых, а у тех, кто остался, сохранился свой менталитет и своя память. Поэтому я заранее прошу извинить, если что не так. Вообще, в нашей стране многое называют не так или делают не то, а в итоге получается правильно. Когда говорят «нельзя» – значит нельзя. Но когда говорят «нельзя», но очень, очень хочется, то можно. Так построили метро. Построили его в одном городе, а пользуются им жители другого города. Его никуда не переносили. Просто город назад переименовали. Был город Горький, а стал – Нижний Новгород.
Метро необходимо было строить, но не из чего было строить. Выделяемых фондов и денежных средств на строительные материалы и оборудование (в то время всё получали по фондам), технику и машины, автотранспорт не хватало катастрофически. Примерно пятьдесят процентов от потребности по проекту. Честно сказать, тогда никто и не знал точно: сколько чего надо, и сколько на это надо разных строительных материалов, и сколько средств. Денег давали сколько было, а материалы и оборудование отгружали не только за деньги, но и на инкассо, то есть без предварительной оплаты. И нам, работникам материально-технического снабжения, приходилось добывать всё необходимое правдами и неправдами. И мы добывали и правдами, и неправдами. Выискивали, выпрашивали, требовали, умоляли. Отгружали, отправляли и доставляли к нам в город на базу Метростроя или прямо на участки строительства, в зависимости от срочной потребности. Даже выделенные фонды приходилось выбивать и получать с трудом. И уже вопрос стоял не столько в деньгах, сколько в материалах. И строили. Проекта готового самого ещё не было, а уже строили. Нельзя, а куда деваться. Город остро нуждался в метро, как и сегодня, впрочем. Часто рабочие чертежи приносили уже после того, как какой-то объект уже построили. Приходилось переделывать. А если переделывать было уже нельзя – согласовывали. Поскольку метро в стране строят уже много лет и во многих городах, то и у нас строили как везде. Изменения вносили в ходе строительства. Надо обязательно сказать, что наше метро строили не только наши городские метростроевцы, которых на момент пуска первой очереди в 1985 году насчитывалось уже более 2500 человек, но и другие, очень многие строительные и не строительные организации, предприятия и заводы нашего города и многих других городов. Строила практически вся страна.
Первым прибыл десант из Невинномысска, это был Тоннельный отряд № 20. Строили в первую очередь, конечно, люди, и мне посчастливилось принять в этом участие. О строительстве нашего метро, о людях, с которыми мне пришлось вместе работать, об интересных случаях и многом другом пойдёт речь дальше.
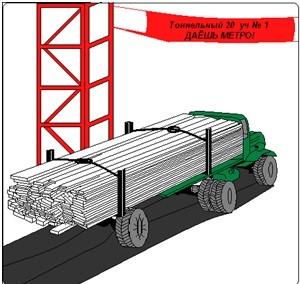
Хочу быть метростроевцем
На красивой старинной, кованой калитке на Верхне-Волжской набережной красовалась буква «М» в кружочке. Мне сюда. За калиткой большой дом на высоком и крутом откосе набережной Волги – строгий и чем-то загадочный. Здесь располагалось управление строительства Горьковского метрополитена – Горметрострой, а также управление производственно-технологической комплектации. Так длинно называлась организация, где мне предстояло работать, сокращённо – УПТК.
«Тебе надо Лейтеса, – сказал мне мужчина средних лет, невысокий, с большими залысинами, в лиловой, модной тогда нейлоновой рубашке. – Найти очень просто. Выйди на лестницу, его слышно со всех этажей».
Так и случилось. Я услышал громовой голос, опускавшийся этажа с четвертого. Высокий, очень крупный седой человек, спускаясь по лестнице, разговаривал с кем-то. Но слышно было только его. Довольно быстро он закончил разговор и был уже на первом этаже, где располагалось УПТК. «Зиновий Лазаревич, к вам человек», – сказал Лиловая Рубашка. «Проходи», – сказал он и своей ручищей, как поршнем, вдавил меня в кабинет. Усевшись за большим столом, он занял почти половину его.
«Что закончил? – спросил он и, услышав мой ответ, улыбнулся и неожиданно мягко произнёс: – Наш человек!» Оказалось, и он, и Лиловая Рубашка закончили то же учебное заведение и тот же факультет. Немного поговорив, спросил, когда я смогу выйти на работу, и сказал: «Давай быстрей, людей не хватает».
Так началась моя работа в метрострое. Определили меня в отдел реализации выделенных фондов, или, проще и короче, – «реализации». Прошло несколько дней, прежде чем я познакомился со всеми работниками. В кабинетах никого не было, все были «в разгоне». Один дневал и ночевал на Сибирских или Молитовских пристанях. Разгружал железнодорожные вертушки с гранитным щебнем и там же отгружал его на участки строительства автотранспортом. Другой ночевал на металлобазах, стоя в огромных очередях и вывозя потом металлопрокат на базу или на участки. Третий был в командировке, а больше никого и не было. Был ещё отдел комплектации, в котором работали две женщины: они занимались обработкой документации, заявками и прочими бумагами, зарывшись в них с головой. Телефоны не умолкали ни на минуту. Звонили с участков, требуя с нас строительные материалы. Звонили изо всех отделов управления строительства, давая ценные указания. Звонили мы, выискивая эти строительные материалы, так как в те годы строительные материалы просто так было не купить и не получить. Голос из кабинета начальника УПТК перекрывал все звонки. Он тоже искал, требовал, ругался, но уже больше с Москвой – с отделом материально-технического снабжения Главтоннельметростроя. И поскольку голос Лейтеса нёс громогласную брань и ругань за пределы кабинетов и даже здания, начальники участков и строительных подразделений, приезжающие на очередную оперативку, безошибочно определяли его местонахождение. Ввиду того, что всех стройматериалов всегда не хватало, всё, что могло быть приобретено в больших, чем необходимо, количествах, завозилось на базу и затем обменивалось со многими другими предприятиями на другие материалы. Названия некоторых из них, суть которых понималась в сокращениях, до сих пор вспоминаются с благоговением и восторгом: Волговятглавснаб, Волговятметаллоснаб, Бумлегснаб, Химпродснаб… Была ещё одна очень интересная и крупная организация, называлась она Волговятмашэлектроснабсбыт…
Атланты и кариатиды
В подразделениях имелись свои отделы снабжения. В Тоннельном – Луценко Володя, который приехал в Горький вместе с отрядом из Невинномысска. Прищуренным левым глазом всегда смотрел с хитринкой, как будто прикидывая, что можно с тебя взять. В СМУ-1 – Миша Жак, невысокого роста, полный, круглый, такой же широкой души человек, «железный» исполнитель. В СМУ-2 – Лёша «Ганс», высокий худощавый парень в постоянной с высокой тульей кепке с прямым большим козырьком, он был похож на немца, потому и Ганс. Умел чётко обосновать заявку на материалы, ну а уж выбить выполнение её было делом техники. Все они тоже выискивали, доставали и завозили на свои участки всё, что можно и чего нельзя, иногда не согласовывая с Зиновием Лазаревичем. За глаза его называли Торгаш или Главный Меняла, на что он сильно обижался и всегда ругался. Менялось всё на всё. Металл на пиломатериал, арматура на листовое железо, лес на краску, краска на гвозди и так далее, и тому подобное. Иногда получалась такая длинная цепочка, такая путаница, что, выяснив истинную причину заявки только «в седьмом колене» и совсем на другие материалы, Зиновий Лазаревич выдавал такую громогласную тираду из многоступенчатого мата, что видавшие виды строители пригибали головы от таких надстроек и выражений и звенели стёкла. Мат был неискореним. Ругались все. Начиная с главного инженера, Зборовского Владимира Владимировича, вскоре ставшего начальником управления строительства, главного диспетчера, Разумовского Юрия Александровича, – и кончая простым экспедитором и хорошим, в общем-то, парнем Юркой Коробковым. Лейтес был очень строг, но справедлив. За необоснованно невыполненное задание мог одной рукой приподнять тщедушного невысокого Коробка, подвесить, прижать его к стене, как Карабас-Барабас Буратино, и вытряхнуть из него всю душу, пока тот не скажет: «Виноват, исправлюсь». На самом деле его вины не было почти никогда. Стечение обстоятельств и задания ему были объективно таковы, что другие могли их никогда не выполнить. А он, маленький, худенький, с загоревшим до черноты лицом от ожидания в постоянных очередях и работы в «поле», почти всегда пьяненький, за что и получал, был надёжным исполнителем. Лиловая Рубашка – Юрий Степанович Ходалёв был начальником отдела, где я работал. Практически заместитель Лейтеса, до введения такой должности. Старый снабженец, очень опытный, он знал Волговятку (Волговятглавснаб) от чердака до подвала, был там нашим представителем или «попрошаем». Так в шутку его называл Владимир Владимирович Рухман – заместитель начальника Металлоснаба. А Степаныч – так, по-родственному, звал его весь снабженческий мир – кланялся с просьбами для нужд метро и знаменитому Цопа – начальнику Металлоснаба, и, когда все отказывали, а было очень надо, шёл к самому Рубинчику – начальнику Волговятки. И тот почти всегда находил возможность помочь.
Проработав три дня в офисе УПТК и проехав для ознакомления по всем участкам строящегося метро, я проникся тем своеобразным настроем, что парил в воздухе вокруг строительства. Дух метростроевцев, задорный, уверенный, новый и для наших, горьковских, строителей метро, и для меня, и для всех жителей города, чувствовался во всём. В разговорах, в работе, в планах. По радио и по телевизору главные новости города – со стройки метро. Все жили одной мыслью – быстрей построить метро. Не было слова «не могу», было слово «Надо»! В лексикон вошло выражение с модного тогда плаката НОТ – научной организации труда: «Кто хочет что-нибудь сделать – ищет возможность, кто не хочет ничего делать – находит причину!» Нет невыполнимых заданий. В этом смысле Пашку Корчагина – «Как закалялась сталь» – и Мересьева вспоминали часто. Но ты же советский человек! Вывернись наизнанку, но сделай! Для знакомства с людьми и участками мне поручили несколько местных операций. «Операция» – слово громкое, но оперативное. Первая – доставка пиломатериала на участок № 1 Тоннельного отряда. Казалось бы, обычное дело, но лесовоз, привёзший пиломатериал на участок, был загружен необрезным пиломатериалом «навалом» – подсчитать точное количество досок и высчитать кубатуру не представлялось возможным. Начальник участка Леонид Чеснюк отказался принимать груз: «Даже на глаз видно, нет здесь заявленных четырнадцати кубов». Действительно, там было кубов двенадцать. После долгих переговоров с руководством и складом отгрузки по телефону, откровенной ругани, Чеснюка всё же уговорили подписать накладные. Лесовоз освободили только к вечеру. В итоге Леониду пришлось подписывать ещё и путёвку водителю за весь день. Подобные «войны» с участками были и в дальнейшем. Начальник четвёртого участка СМУ-2 Андрей Крюков при приёмке гранитного щебня сравнял бульдозером несколько куч от самосвалов, в результате хотел подписать накладные на шестьдесят тонн меньше. Это же практически целый вагон! По подсказке Лейтеса я попросил показать в производственном отделе СМУ-2 количество предъявляемых к оплате объёмов заказчику. После некоторой заминки накладные подписали, но объёмы не показали. Подобные казусы происходили не только из-за спешки, нехватки людей и техники. Кому-то это было выгодно.
Грузили бегом, иногда, правда, вручную. Везли бегом, если выделялся транспорт. Разгружали… Вот с разгрузкой было сложнее. Техники, рабочих постоянно не хватало. Один единственный кран занимался и погрузкой, и выгрузкой, и монтажом, и могло скопиться несколько машин, ожидая, когда освободится кран. Поэтому очень большую роль в организации и управлении строительства играл отдел главного диспетчера. Работая круглосуточно, диспетчера Саша и Надя, сменяя друг друга, держали руку на пульсе событий. Принимали заявки на автотранспорт, учитывали производство, подачу бетона и раствора. Управляли грузопотоками. При необходимости снимали и перебрасывали технику с объекта на объект. Главной фигурой и связующим звеном между строительными управлениями был главный диспетчер Юрий Александрович Разумовский. Его знали все. Он знал всё. Он имел непререкаемый авторитет. Грозный на вид, страшный матерщинник мог «отчесать» любого начальника участка за нерадивость, неповоротливость и несвоевременно выполненные работы. Для оперативного решения вопросов сам мотался по участкам и, поскольку в то время не было сотовых телефонов, появляясь на участке, сразу садился на телефон и полчаса общался, кричал, ругался, пока не доведёт дело до конца. Но для общения с людьми был всегда открытым человеком. В его чёрном дипломате всегда «было».
По окрасу его лица, шеи и головы можно было определить, сколько он «принял». Шея красная до подбородка – пол-литра, шея, уши и лицо красные, но белая лысина – три четверти, весь красный, с макушкой, – дипломат «пустой». Разумовский знал, чем дышит стройка. Знал, что надо делать, чтобы стройка работала ровно. Все нити сходились к нему. Но и на оперативках доставалась больше всех ему. За всё. Он принимал на себя и ответственность за порученное дело, и все молнии и грозы сверху. Нагрузка была неимоверная, оттого, наверно, и снимал иногда стрессы содержимым дипломата. Как правило, до виновников молнии доходили значительно реже и заметно короче. Начальники участков, загнанные ситуацией в безвыходные положения, тоже получали от него матюков, но в значительно меньшей степени. В большей мере получали от него практическую помощь и советы. Хороший был человек. Позже появилось больше и техники, и людей. Народ сработался, вошли в график, и работа пошла как на конвейере. И к этой настроенной слаженности его отдел был сильно причастен.
Москва
Однако без обеспечения и снабжения строительными материалами, железобетоном, строительства метро тоже не было бы. Как только стало ясно, что я проникся метростроевским настроем, получил первое серьёзное задание – командировку в Москву. Действительно, поездка в Москву на грузовой автомашине вначале казалась весёлой и несложной. Отправили нас вдвоём с начальником отдела комплектации Володей Паутовым. За отсутствием людей на нём лежали и командировки отдела реализации. Он был уже в этом деле дока и ехал передать мне московские дела. Чему он был безмерно рад. Парень молодой, компанейский, весёлый. Всю дорогу до Москвы рассказывал мне о делах, которых накопилось очень много, а у него рук не хватает на всё. Поэтому отдают мне Москву. Дорога в то время была узкая, машин не очень много. Иномарок вообще не было – в основном МАЗы, ГАЗы, ЗИЛы и КамАЗы. Но и на пустом КамАЗе мы плюхали около девяти часов. На каждом посту ГАИ, а их было семнадцать, двух весовых и УТЭПО (попутная обязательная загрузка), почти в каждом населённом пункте чуть крупнее посёлка – остановка, проверка документов, путевых листов. Сейчас, к счастью, постов стало много меньше, а УТЭПОв нет совсем. Десять лет потом я ездил по этой дороге, все населённые пункты помнятся от Нижнего Новгорода: Гороховец – заправка и столовая, Слободищи – затяжная гора. В зиму часто с трудом машины въезжали наверх, шлифовали досуха. Сенино, Сенинские Дворики – там была старая пельменная, в которой готовили очень вкусные самодельные, большие пельмени. Вязники – завод световой аппаратуры, большое электронное табло часов. Крутицы, поворот на Ковров – хорошая, большая столовая. Деревни Крутово, Кузнецы – дом с ветряком и стеклянным парником на крыше. Старый мост через реку Клязьму, с которого рухнул трактор. Покров. Место падения самолёта Гагарина и Серёгина. Петушки – большая столовая на перекрёстке, но мы туда никогда не ходили, потому что готовили там плохо. Боголюбово – кафе «Нерль» за железным мостом, при проезде которого замолкали все приёмники. Город Владимир с, наверное, вечно строящейся объездной дорогой и пробками на ней. Село Демидово с тупым и непроходимым постом УТЭПО. Киржач – красивый, в старинном стиле деревянный терем ресторана «Сказка» с изумительными пирогами на въезде в Московскую область – ровно сто километров до Москвы. Ногинск – вечно закрытый железнодорожный переезд. Теперь есть объездная. Орехово-Зуево – большой перекрёсток на Ярославль – направо, на Ликино и Ликинский автобусный завод – налево. Электросталь и Электроугли – пост перед развязкой. Химбазы – директор мой однофамилец. Балашиха – бессчётное число светофоров… И вдруг – большие буквы «МОСКВА», выезд на кольцевую дорогу. МКАД.
Легко сказать, но не просто запомнить за один проезд дорогу до базы Минтрансстроя на Звенигородском шоссе, затем на базу Мосметростроя на Открытом шоссе. Потом на метро до станции «Лермонтовская» (ныне «Красные Ворота»). Попасть в отдел снабжения Главтоннельметростроя в здании Минтрансстроя на Садовом кольце, причём вход по пропускам, заказанным заранее. Познакомиться с людьми, выписать, оформить наряды, и обратно, в метро, и дальше – погрузка на нескольких складах и дорога домой другим путём. Огромный город – мегаполис, неординарное движение, невиданная масса машин. Голова кругом. Но я запомнил! В следующие поездки с другими водителями смело проезжали по Москве без проблем.
Изучив Москву по карте, стали бывать и на других базах, участках Мосметростроя, предприятиях Москвы. Ездили настолько часто, что впоследствии водители справлялись сами. Наши метростроевские асы несли на дверках кабин крылатую букву «М» малинового цвета. Не было проблем «найти». Были проблемы «доехать и получить». Всякий раз присутствует фактор непредсказуемости ситуации. Однажды Володя Чеканов, молодой водитель КамАЗа с прицепом, прибывший с первым отрядом строителей Тоннельного отряда № 20, в первый раз поехал со мной в Москву. Приехали на участок в центре Москвы поздно ночью, когда дороги были свободны. Кривоколенный переулок, 3 – это совсем рядом с Красной площадью. Днём туда не заехать без специального пропуска. Утром, выгрузив материалы, стали выезжать на Садовое кольцо. Начав движение на зелёный сигнал светофора, мы успели пересечь только половину Садового кольца. Включившийся красный и многочисленные встречные машины не дали завершить маневр. Полностью перекрыв машиной и прицепом внутреннее кольцо, мы намертво встали поперёк Садового кольца. Не смогли закончить манёвр ни после второго включения зелёного, ни после третьего. Рёв автомобильных сигналов закладывал уши. Володя покраснел – к нам направлялся работник ГАИ. Невысокого роста, с большим пунцовым лицом, не торопясь, вразвалочку подошёл он к водителю. Козырнув, капитан молча взял права, остановил всё движение и выпроводил нас на Садовое. «Ну всё, – сказал Володя, – теперь права заберёт». Хорошо, что у нас с собой «было». Я отправился на переговоры. Дело решила красненькая десятка сверх бутылки. Права вернули. В то время это были большие деньги для нас.
Родом из небольшого городка Невинномысска, Володя удивлялся такому количеству машин и интенсивному движению. Бюрократия чиновников, «отрывающих от себя» материалы. Чванство клерков, выписывающих наряды на получение груза. Огромные, часовые пробки. Двигатели кипят, бензин кончается, время, нервы на исходе – цейтнот полный, но ты должен успеть доехать и получить. Металл, цемент, кабель, мрамор, оборудование – всё, что угодно, и всегда срочно. Потому что строим метро, а это сроки. Потому что это люди, которые работают под землёй в опасности. Обрушение кровли, вывал породы, завалы, прорывы воды и затопление шахт и тоннелей, выброс газа – обычное дело. Потому что строительство метро – это такое же непрерывное производство, технология, которую нельзя останавливать. Восемьдесят процентов всех материалов дала Москва и получено по её нарядам и распоряжениям. И мы возили, возили и возили. Более семисот километров кабелей, тысячи тонн металла, цемента, железобетона. Пока мы строили свой метростроевский завод ЖБИ, изделия заказывались и потом вывозились с Московского завода ЖБИ № 9, ЗЖБК № 1 в Горьком и ЗЖБК № 4 в Дзержинске. Только поставками железобетона занимался Сергей Городнянский из СМУ-1. Он работал в отделе с Мишей Жаком. Высокий, со светло-русой шевелюрой, большими круглыми глазами, южнорусским говором и по-детски розовыми щеками парень. Через несколько месяцев налаженной работы его хотели призвать в ряды Советской Армии. По поручению руководства и его просьбе я отправился в военкомат Ленинского района. Объяснил капитану, что он срывает строительство метро и что мы будем жаловаться куратору стройки, председателю облисполкома Соколову Александру Александровичу. Густо покраснев, закрыв руками голову сверху, капитан закричал на молодого лейтенанта: «Я говорил тебе, не дёргай людей с Метростроя, теперь шуму не оберёшься!» Было специальное, неофициальное распоряжение – не призывать людей с Метростроя на период строительства. Сошлись на бочке масляной краски «Слоновая кость». От полученной радости Сергей плясал вприсядку. Затем приволок ящик «Агдама», который все дружно и «угомонили». И снова возили, возили, возили. Водители не досыпали, ворчали, но ехали. Мы буквально жили в Москве. Грузов было столько, что уезжать домой не было смысла. Я устроился в общежитие Мосметростроя на улице Реутовской и ночевал там очень часто. В обычной девятиэтажке, четырёхкомнатная квартира на четвёртом этаже, по две кровати в комнате, в большой проходной – телевизор, ковролин, кресла. Очень прилично. Кухня, туалет, ванная – как в обычной квартире. Нормально, в общем. Звонил в Горький из Мосметростроя, заказывал машины. Разумовский кричал, как обычно: «Лёшка, ты и так все большегрузы забрал, на железобетон и металл не хватает, иди на…» Но транспорт он всё равно находил.



