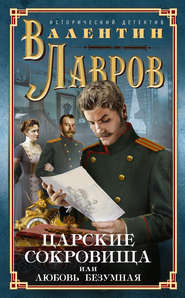
Полная версия:
Царские сокровища, или Любовь безумная
Керенский строго сказал:
– Читайте, об этом дальше!
Джунковский вновь углубился в приказ:
– А, нашел! «Лиц, самовольно оставивших ряды войск и не явившихся в свои части до 15 мая сего года, лишить права участия в выборах в Учредительное собрание и в органы местного самоуправления. Предоставить Учредительному собранию право на лишение дезертиров получать землю по грядущей земельной реформе…»
Керенский самодовольно крякнул:
– Как? Ловко я подлецов подцепил?
Джунковский внимательно посмотрел на собеседника: «Шутит он, что ли?» Нет, Керенский азартно хлопнул здоровой ладонью по крышке стола, и весь вид его сиял самодовольством.
Джунковский мягко, словно доктор больному головой, сказал:
– Вы, Александр Федорович, и впрямь думаете, что бежавшего из армии крестьянина взволнует лишение права голоса? Да ему совершенно безразлично, кто войдет в это собрание. Он ни с кем из кандидатов чай не пил. «Свобода» – это свобода воображения тех, кто не жил среди народа, кому народ чужд и неприятен. Вот вам лично, Александр Федорович, нужно Учредительное собрание, поскольку вы уверены, что именно вас это собрание выберет на какую-нибудь важнейшую государственную должность. И вы снова будете принимать новые, никому не нужные решения, подписывать бес полезные приказы, произносить зажигательные речи, которые никого зажигать не будут. Мужику ничего из этого ассортимента не надо. Чем меньше лезет власть в дела мужика, тем спокойнее тот живет.
Керенский сморщился:
– Критиковать все мастера.
– Вы спросили мое мнение – я отвечаю. Затем, велик ли резон оперировать прошедшей датой – пятнадцатого мая? Приказ в этом случае никак не достигает своей цели, потому что пожелавший вернуться в доблестные ряды защитников Отечества давным-давно опоздал.
Керенский с кислой улыбкой спросил:
– Но мне очень хочется знать: что вы рекомендуете?
Джунковский тоном, полным погребальной безнадежности, произнес:
– Армии нет, армия пропала. Александр Федорович, пока не поздно, надо заключать мир и развозить по деревням эту обезумевшую крестьянскую массу, не забыв при этом отобрать у них оружие. Иначе, привыкнув убивать на фронте, они продолжат убивать в тылу.
Года глухие
Керенский изобразил на лице бесстрастие. Он прикрыл глаза, и правое веко у него явственно дергалось. Изящная кисть левой руки с тщательно обработанными и покрытыми бесцветным лаком ногтями расслабленно лежала на столе, и кончики пальцев слегка дрожали. Слабым голосом возразил:
– Оказывается, вы, генерал, находитесь на одной идеологической платформе с большевиками. Не ожидал!
Джунковский жестко продолжал:
– Почему была устроена чехарда министров, почему к штурвалу государственного корабля пролезли люди, пригодные только для торговли квасом? – После долгой паузы многозначительно добавил: – Я таких ставил бы к стенке, как аферистов и врагов народа, ибо вред от них исключительный. Способности как у лабазника, а замахиваются великим государством командовать. Расстреливать их без жалости, тогда миллионы хороших людей удастся спасти! Попомните: необходимо вновь ввести смертную казнь. Или ее введут те, кто отнимет у вас власть.
Керенский замахал рукой, будто отгонял муху:
– Нет, я демократ, я пригвождаю своих оппонентов к позорному столбу словом, а не веревкой палача. – Устало прикрыл веки. – Еще публицист Писарев сказал: «Слова и иллюзии гибнут, факты остаются!» Я не хочу, чтобы отдаленные потомки называли меня «вешателем». Да-с!
Джунковский невозмутимо произнес:
– Но могут назвать предателем.
Джунковский ждал взрыва, крика, извержения вулкана, ареста, Петропавловской крепости. Но вместо этого Керенский открыл глаза, поскоблил гладко выбритый подбородок и спокойным, даже веселым голосом произнес:
– На днище большого корабля всегда налипает всяческая мерзость. Вижу, вы Россию любите. Мне поэт Александр Блок подарил автограф своего стихотворения «Россия». Почерк у поэта каллиграфический, вдохновенный, как он сам. Желаете послушать? – И, жестикулируя свободной от болезни рукой, хорошо поставленным голосом на память прочитал:
Россия, нищая Россия,Мне избы серые твои,Твои мне песни ветровые –Как слезы первые любви. –Замечательно, не правда ли? Это по моей рекомендации Блока привлекли к работе следственной комиссии. Пусть подкормится, ему приличное жалованье положили, на авто домой отвозят, когда судьи не ездят.
– Точно – слезы, – вежливо согласился Джунковский.
– Вообще, я влюблен в поэзию Блока, – с пафосом произнес Керенский. – Блок – это Пушкин наших дней. Послушайте, мой друг, еще четыре строки. – Встал в позу, протянул к люстре руку:
Рожденные в года глухие,Пути не помним своего,Мы, дети страшных лет России,Забыть не в силах ничего. –Ну как, вдохновенно? – И Керенский снова воздел руку к потолку.
Джунковский подумал: «Меня вызвали из армии, кажется, для того, чтобы я слушал декламацию!» Но подавил гнев, сменил его на хитрость стратега. Мягко произнес:
– Блок – поэт замечательный, но мы немного отвлеклись от главной темы. Солдаты понимают, что вы, Александр Федорович, только что стали военным министром и ничего не могли успеть изменить. Но теперь надо ждать ваших мудрых решений. Так, к примеру, считает известный вам граф Соколов-младший, которого я недавно встретил. Он вообще в восторге от вас.
Керенский с важностью кивнул:
– Да, конечно, у меня как у политика немало, э, поклонников и поклонниц. Но я человек не честолюбивый. Больше меня тревожит то, что сейчас вам, э, героям фронта, очень трудно. Но скоро станет легче. – И он вновь впал в экстаз, заговорил словно в горячечном бреду: – Да-с, очень скоро вам станет намного легче. Не все понимают своих стратегов. Наполеона поначалу тоже не понимали. Над Суворовым смеялись. Я все просчитал! И вопреки мнению скептиков, войну, сударь мой, будем продолжать до полной победы. Я решил играть ва-банк. – Оглянулся, словно кто-то мог подслушивать, подался туловищем вперед, выбросил вверх руку. – Открою военную тайну. Только обещайте – никому ни-ни!
Джунковский в ответ лишь что-то хмыкнул. Керенский перешел на заговорщицкий тон:
– Я готовлю стремительное наступление на Юго-Западном фронте. В самые ближайшие дни. Уже разработал стратегические планы.
Джунковский не удержался, вставил слово:
– Александр Федорович, извините, но об этом секретном плане уже знают даже трактирные лакеи. Первоначально наступление планировалось начать десятого июня, но…
– Но пришлось перенести на пятнадцатое, – торопливо проговорил Керенский. – Еще не закончили подбрасывать живую силу и технику. Эта дата окончательная и, – помахал перстом, – пересмотру не подлежит.
Джунковский подумал: «Можно представить, чего стоит стратегический план, составленный под эгидой присяжного поверенного!»
Керенский азартно продолжал:
– Именно пятнадцатого, одновременно с артиллерийской подготовкой, с этим салютом нашей победоносной армии я прибуду в Тернополь. Да-с! Я сам приеду воодушевлять солдатушек. Сейчас там сильны позиции некоего капитана… – Керенский отыскал на столе записную книжку, по слогам прочитал: – Дзе-ватовского, большевика и провокатора. Это сообщил мне начальник штаба фронта Духонин. Я должен в присутствии тысяч людей развенчать его фальшивые призывы к позорной капитуляции.
– Да чего там устраивать полемики, – отозвался Джунковский, – судить его как немецкого агитатора.
Керенский теперь слушал внимательно. Он, кажется, неожиданно для самого себя сказал:
– К высшей мере будут приговариваться единицы – лишь за самые тягчайшие преступления. – Он снова уселся за стол, что-то долго писал на листе бумаги, потом решительно произнес: – В Тернополе я всем покажу, что русский солдат – самый дисциплинированный и горячо любящий своих начальников. Я буду агитировать в Первом гвардейском корпусе. Нужно уметь найти зажигательные слова и произнести их доходчиво. Мы, дети революционных лет России, воспламеним в доблестных сердцах гвардейцев огонь любви к нищему, но бесконечно дорогому Отечеству. И тогда солдатушки полюбят Россию так, как люблю ее я. Тэк-с! Славные воины за меня хоть в огонь, хоть в воду! Ибо знают, как я люблю Отчизну. Перефразируя слова Гамлета у могилы, э, Офелии, скажу – вы, разумеется, помните, это из пятого действия. – Он прижал ладонь к груди: – «Я люблю Россию, как сорок тысяч русских ее любить не могут!»
Джунковский вновь едва не прыснул смехом. Керенский, заметив его улыбку, взмахнул рукой, снова вышел из-за стола, с азартом крикнул:
– Уверен: мое горячее слово возбудит в народных массах утраченную любовь к свободной демократической России! – И он едва не крикнул «ура!», но под укоряющим взором Джунковского смутился, сделал вид, что и не собирался испускать боевой клич. Вдруг заговорщицким тоном сказал: – Генерал, вы должны знать, что сейчас, спустя три месяца после свержения старого строя, Петроград пребывает в состоянии политического неустойчивого равновесия. Грабежи, стачки на многих заводах, аресты неуступчивых фабрикантов бунтарями-рабочими, полное разложение многих частей Петроградского гарнизона, катастрофическая нехватка продовольствия – вот что мы имеем на сегодняшний день.
Джунковский резонно заметил:
– Александр Федорович, наведите порядок!
Керенский вскинулся:
– Вы, генералы, понимаете наведение порядка как пролитие крови. Я категорически против насилия. Мне дорог русский народ. Иное дело – большевики. Они годами и десятилетиями жили за границей. Для них народ – понятие абстрактное, материал для достижения своих амбициозных целей, не более! Как стало известно из агентурных источников, Ленин со своей заговорщицкой партией хочет незаметно подготовить и неожиданно осуществить в Петрограде выступление многих тысяч вооруженных солдат. И какую дату они избрали для выступления? Десятое июня – дата планировавшегося наступления на фронте. Ведь это явная игра на пользу Германии!
Джунковский спросил:
– Разве слабые большевики в состоянии захватить власть?
– Ленин не рискнет сейчас посягнуть на захват, но он делает все возможное, чтобы дестабилизировать обстановку в Петрограде. К счастью, у них в партии полный разлад. Два члена ЦК… – Керенский опять раскрыл записную книжку, – некие Сталин и Стасова, настаивают довести движение до конца, то есть захватить власть, а все Временное правительство перестрелять. Зато две более влиятельные фигуры – Каменев и Зиновьев – высказываются против выступления. – Застонал, как от зубной боли. – Вот уж точно: «Врагов имеет в мире всяк, но у меня их свыше меры!» О боже, что делать?
Джунковский обыденным тоном посоветовал:
– Арестовать весь большевистский ЦК и поставить к стенке.
Керенский замахал рукой, с решительным вдохновением воскликнул:
– Вы опять о своем! Неужели мы свергали царскую деспотию для того, чтобы самим стать палачами народа?
– Лучше строго наказать десяток преступников, чем подвергать кровавым испытаниям целое государство.
Керенский, словно его озарила нежданная мысль, остолбенело воззрился на собеседника, забормотал:
– Может быть, может быть…
Музыка Легара
Джунковский мысленно произнес: «Слава Тебе, Боже! До этого фигляра мои слова, кажется, дошли!»
Керенский вновь прошелся по кабинету туда-сюда, покачал головой:
– Можно быть прекрасным воином, но никудышным политиком. Бисмарк точно сказал: «Политика есть искусство возможного». Да-с!
Джунковский моментально нашелся:
– Тот же Бисмарк, кстати, находясь в России, утверждал: «Политика – это недуг, который надо лечить кровью и железом». Вот вы весьма политичны с Лениным, Троцким и прочими заговорщиками. Но если Ленин и его приспешники сумеют силой отнять у Временного правительства власть, то всех вас, министров, сразу же расстреляют, потому что большевикам надо будет укреплять свою диктатуру.
Керенский вплотную подошел к Джунковскому, наклонил набок голову, произнес трагическим тоном:
– Вы ведь не знаете, что с Лениным мы из одного города – Симбирска? И наверняка не слыхали, что мой отец был начальником отца Володи? Пусть в разные годы, но мы учились в одной гимназии. И главное, мистически-загадочное, – многозначительно поднял указательный палец вверх, – мы даже родились в один и тот же день – двадцать второго апреля. И как я могу убить Ульянова? С ранних лет в нашем доме я слышал от родителей эту фамилию – Ульяновы. Лично мне Володя Ульянов симпатичен, но, к сожалению, по натуре своей он интриган и заговорщик. Зато, как большинство полукровок, очень умен. Нет, никогда я не отдам приказа о его расстреле. Не могу и не хочу!
Джунковский усмехнулся:
– Опубликованы в газетах неопровержимые документы: Ленин, Ганецкий, Троцкий и прочие – германские шпионы. Идет война, и если мы не уничтожим внутреннего врага, то он всадит нож в нашу спину. Тем более что большевики заявляют весьма приятную для пролетариев программу: немедленное заключение мира, объявление буржуазии вне закона, то есть провозглашение кровавого террора и разрешение крестьянам захватывать помещичьи земли, а рабочим – фабрики и заводы.
Керенский кисло усмехнулся:
– Все это чепуха, обещать можно что угодно.
– А простые люди, преимущественно из тех, что ненавидят труд, как таковой, очень любят химерические обещания.
– Вы, Владимир Федорович, прекрасно оппонируете, могли бы стать великолепным оратором.
Джунковский, призвав на помощь все свои актерские возможности, прижал руку к груди и с пафосом воскликнул:
– Дело не во мне – генералов много, а вот Керенский у нас один. Дорогой Александр Федорович, ведь вы падете первой жертвой этих головорезов. Россия, слез не утирая, станет вечно скорбеть о вас…
Керенский слушал внимательно, затем печально закрыл веки, прислонил к ним носовой платок. Потом он принял вид, полный глубокомыслия. Несколько раз, словно что-то серьезно обдумывая, прошелся по кабинету, поглаживая ладонью подбородок. Остановился возле Джунковского, резанул рукой воздух и с торжественным пафосом произнес:
– В ваших словах, генерал, есть много сермяжной правды. Что касается смертной казни, то вы меня убедили, я вновь ее введу – на пользу революции. – Протянул руку: – Спасибо, что посетили меня!
Джунковский мысленно перекрестился: «Дошло до сознания этого остолопа, слава богу!» И еще, все время разговора помнил о просьбе графа Соколова. Уже стоя в дверях, сказал:
– Александр Федорович, вы наверняка слышали о подвигах Аполлинария Соколова?
– И что он хочет? – Керенский нетерпеливо дергал ногой, бросал взгляды на каминные часы и на дверь, давая понять, что аудиенция закончена. – На передовую? Такие люди там нужны. Пусть рапорт на мое имя напишет, я его направлю в распоряжение штаба Юго-Западного фронта.
– Пока его желание скромнее.
– Уточните! – Керенский был явно недоволен затянувшимся разговором.
– Согласно воинскому уставу, граф Соколов обязан о проведенной операции по потоплению германской субмарины «Стальная акула» доложить командиру, который отдавал ему приказ.
– Пусть докладывает, разрешаю!
– Дело в том, что этот приказ отдавал… государь Николай Александрович. Соколов хотел бы увидать царя…
– Бывшего царя, – поправил Керенский и, окончательно раздражаясь, выпалил: – Полковник Романов теперь никакого отношения к войне не имеет. Нынче он частный человек. Не разрешаю! Это блажь! Я только что встречался с Романовым, предложил переправить его в Англию. И что вы думаете? Он желает оставаться здесь, как бельмо на глазу. Это легкомысленный и пустой человек. И пусть вашего Соколова совесть не угрызает. Если пожелает, может доложить в нашем министерстве полковнику Штейнбаху. Желаю вам, генерал, новых славных побед во имя демократии и расцвета великой России! – Протянул для прощания сухую ладонь. – И запомните: настоящее России ужасно, но есть человек, готовый взять на себя всю ответственность за ее будущее.
Джунковский, напустив на себя притворную серьезность, воскликнул:
– Этот человек передо мной!
– Совершенно верно! Наступают решительные дни, ибо Россия на краю зияющей пропасти!
Джунковский направился к выходу. Папка с фронтовыми документами не понадобилась – военно-морскому министру они оказались неинтересны.
Вдруг за спиной Джунковский услыхал мотивчик из «Веселой вдовы» Легара. Его насвистывал Керенский.
* * *Вернувшись домой, Джунковский тщательно вымыл руки.
Сестра Евдокия сказала:
– Аполлинарий Николаевич обещал вернуться только к ужину. Как бы не вымок, тучи во все небо, на дворе потемнело, хоть свечу зажигай. А он ведь даже без экипажа…
Джунковский улыбнулся:
– Наш граф и не такие грозы видал! Ничего плохого с ним не случится.
Огненная страсть
Соколову не терпелось увидать старых друзей. И в первую очередь очаровательную разбойницу, секретного агента Веру фон Лауниц.
Справочное бюро в Петрограде еще действовало. Барышня запросила десять копеек и, вопреки ожиданиям, через три минуты в окошечко протянула синий листок. Соколов прочитал: «Ул. Гоголя (бывшая Малая Морская), 11, дом Эллы Ник. Штоль». Соколов поцеловал бумажку, на радостях протянул барышне рубль и сказал:
– Сдачи не надо! Заодно отыщите, пожалуйста, адрес Рошковского Виктора Михайловича.
И вновь он получил синий бланк: «Профессор Рошковский, Таврическая ул., 25, дом Елизаветы Долматовой».
Это был адрес старого приятеля, ходившего в боевые походы на миноносце «Стремительный», бывшего доктора государя.
Гений сыска задумался: куда идти сначала? Решил: «Начну с десерта, а слаще любимой женщины нет ничего на свете!» Оглушительно в два пальца свистнул, так что с испугом шарахнулись прохожие, и с угла улицы стрелой подлетел лихач.
– Гони, паразит, на Гоголя!
…Около большого дома стоял «мерседес-бенц». Шофер в новой кожаной куртке загружал в багажник два громадных чемодана. Рядом, спиной к подъехавшему Соколову, стояла изящная дама в дорожном костюме и небольшой шляпке, украшенной по моде павлиньими перьями.
Что-то екнуло в сердце. Дама чуть повернула лицо. Соколов узнал: «Вера!»
Он мягкими тигриными шагами подошел со спины и сказал в затылок:
– Вас, сударыня, поцеловать можно?
Вера резко обернулась, на мгновение замерла и с радостным криком бросилась ему на плечи:
– Милый! Ты где так долго был?
Соколов у всех на глазах целовал ее мокрое лицо, а она сквозь рыдания бормотала:
– Я совсем заждалась… Из-за тебя, жестокий, я сидела в этом ужасном Питере. – И, несколько успокоившись, отстранилась, блестящими, как черная смородина после дождя, глазами, полными любви, посмотрела на него: – А я на Финляндский вокзал, у меня поезд…
– Как скоро?
– Почти через час. – Отчаянно махнула рукой. – Да пропадай все пропадом! Идем ко мне… – Шоферу: – Жди здесь, не отходи от авто – чемодан сопрут.
* * *…Она лихорадочно расстегивала пуговицы и приговаривала:
– Какое счастье, какое счастье! Мне кажется, что это сон. Аполлинарий, неужели это ты? – И толкнула его на громадную, красного дерева кровать и сплелась с ним, слилась в единое существо, обомлела в неземном наслаждении, расплавилась в огненной страсти. Его умиляла и возбуждала ее искренняя любовь, ее глаза, сиявшие безумной любовью.
…А потом, млея от любовной истомы, крепко прижимаясь телом с коротко подстриженными волосиками на лобке, дышала в ухо:
– Я нарочно приехала из Берлина в Питер – так неодолимо тянуло к тебе. Тут из газет узнала, что ты в одиночку потопил немецкую субмарину. Как тебе удалось? – Она округлила глаза, глядела на Соколова с ужасом. – И о гибели твоей семьи – сына, отца и супруги Мари – тоже узнала из газет. И я ждала, ждала, а тебя нет и нет! Два раза приходила к тебе домой, приказала старому слуге Семену, чтобы он сообщил обо мне, если ты, мое солнышко, приедешь, номер своего телефона оставляла… – Жарко задышала в ухо. – А начальство требует: вези в Берлин дезу, перед наступлением на Юго-Западном фронте надо успеть германцев с толку сбить. Вот через Финляндию и Швецию буду пробираться домой, в Берлин. Через три дня должна быть со своим фон Лауницем.
…На вокзал они поспели за минуту до отхода поезда.
Поезд, шипя, разводил пары, он был готов двинуться в путь. Международный вагон, элегантно обшитый желтого цвета деревянными лакированными полосами, выделялся из всего мрачно-зеленого состава. Соколов вошел в узкий коридор, застеленный бордовым ковром. Они не успели дойти до купе, как гулко и ожидаемо раздался третий удар колокола.
Вера с громким плачем прильнула к нему. Сотрясаясь всем телом, по-бабьи запричитала:
– Возьми меня в жены, я буду хорошей, я буду любить… только тебя!
Кондуктор озабоченно сказал:
– Господин, вы не успеете выйти!
Поезд уже набрал ход. Платформа кончилась, и Соколов, рискуя сломать шею, спрыгнул между шпал, едва не налетев с размаху на стрелку. В ушах у него стояло отчаянно-нежное: «Буду любить!..» Он возвращался к зданию вокзала, перешагивая через шпалы, и с недоуменной усмешкой размышлял: «У этой Веры, казалось бы, такое богатое и разнообразное прошлое, что серьезно относиться к ней нельзя… Но сердце логики не приемлет, любит не того, кто хорош, а того, кто ему мил. Я буду скучать о ней. Свидимся ли? Один Бог ведает…»
* * *Гений сыска отправился на Таврическую.
У роскошного дома под номером 25 дворник оказался на привычном месте – с метлой возле парадного подъезда. И если по всему Петрограду в глаза бил главный признак революции – грязь, мусор, семечная шелуха, то здесь было чисто, как в мирное самодержавное время.
Впрочем, демократические перемены дошли и до этого богатого дома: чья-то недрогнувшая рука нацарапала по лакированному дубу резных дверей краткое и непристойное выражение, столь часто звучащее в среде каторжников и революционеров.
Тут же был еще один признак революции – у бакалейной лавки напротив подъезда вытянулась громадная терпеливая очередь.
В парадном подъезде дежурила консьержка, и чисто вымытый зеркальный лифт поднял могучее тело Соколова на пятый этаж.
На дверях висела эмалированная табличка: «Кв. № 13» – и чуть ниже на золоченой бронзе гравировка: «Профессор В.М. Рошковский».
Соколов крутанул ручку бронзового звонка. И почти тут же дверь распахнулась, и взору гения сыска предстал высокий, прямо держащийся мужчина лет тридцати пяти. На нем были лишь пижамные брюки, зато оголенный торс напоминал античную статую: рельефные мышцы, великолепные пропорции тела.
Увидав приятеля, Рошковский опешил от неожиданности. Он хотел что-то сказать, да губы лишь затряслись, издав нечто невнятное, а потом бросился в объятия Соколова:
– Аполлинарий Николаевич, какими судьбами? Вот это счастье! То-то всю ночь мне снилось, что я по темному ночному небу летаю, даже над золотым крестом богатой церкви пролетел. Все думал: к чему столь замечательный сон?
Соколов весело отвечал:
– Как говорят гадалки – к новым хлопотам, – и признался: – У меня, Виктор Михайлович, летать – всегда к удаче и радости. Может, в твой дворец войдем?
Рошковский спохватился:
– Конечно, конечно! Я так растерялся, что ж на лестнице стоим? Я отпустил на сегодня горничную, она уехала в Токсово к родственникам. Сейчас сами завтрак приготовим. А ты, Аполлинарий Николаевич, молодец: по-прежнему бодр, красив, только в глазах застыла печаль. Да, я слыхал о гибели твоей семьи. Прими искренние сочувствия, я разделяю твою боль.
Соколов спросил:
– Как ты, Виктор Михайлович, устроился?
– Да вот открыл на Морской стоматологическую клинику. У нас штат большой – почти двадцать человек докторов и обслуживающего персонала. Цены на обслуживание назначили высокие, но от богатых пациентов нет отбоя. Впрочем, и бедных порой лечим – бесплатно.
– Почему у тебя на щеке ссадина?
– Да вчера моциону и азарта ради гонял по Невскому проспекту на велосипеде, налетел на какую-то коляску (или она на меня?), упал, расквасил лицо. Теперь не появлюсь на службе, пока ссадина не пройдет. Иногда люблю с ветерком прокатиться на авто – обзавелся «бенцем», сам сижу за рулем. Да вот что-то карбюратор забарахлил…
– Назову три причины неисправностей. Засорился пульверизатор, в бензин попала вода или бензиновая камера переполнена.
Рошковский удивился:
– Поразительно, откуда ты, Аполлинарий Николаевич, во всем разбираешься? Теперь свою технику быстро приведу в порядок, и вместе покатаемся по городу и окрестностям.
– Не откажусь!
Рошковский принес из холодильного шкафа сыры, икру, масло. Соколов предложил:
– Давай, Витя, как прежде – первый тост за здоровье государя императора.
Выпили стоя и до дна.
…Поговорив с час, Соколов стал прощаться и обещал скоро позвонить Рошковскому.
Верный Семен



