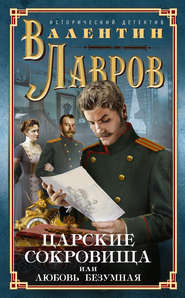
Полная версия:
Царские сокровища, или Любовь безумная
Соколов вновь отправился в экспедицию – в отцовский дом на Садовой. На этот раз его душу не сотрясали романтические переживания, а цель он преследовал корыстную: решил постепенно вынести всю сотню припрятанных бутылок коллекционного вина. Причем сделать это следовало осторожно, не вызывая подозрений новых обитателей дома.
Как известно, еще ни одна революция с трезвых глаз не случилась. Для партийной убежденности ее деятели в зависимости от ранга пьют всё – от тонких вин до сивухи.
Операция по выемке алкоголя проходила успешно. На этот раз Соколов незаметно проскользнул черным ходом. Невзирая на теплую погоду, намеренно явился в шинели, благо человек в шинели стал фигурой привычной. Карманы вместили полдюжины бутылок, еще столько же гений сыска спрятал в плетеную корзину – на дно, а сверху прикрыл каким-то тряпьем.
Старый Семен при виде барина от полноты чувств прослезился, поцеловал ему руку, просил:
– Батюшка, Аполлинарий Николаевич, Христом Богом заклинаю, вынеси из подвала все, что для тебя припрятал. Не дай бог этим разбойникам достанется.
Соколов шутливо отвечал:
– Рад стараться, ваше благородие! – и обнял Семена. – Все сам выпью и друзьям налью, и с тобой мы дружбу отметим.
– Неплохо бы. – Семен мечтательно завел глаза. – Я никогда такого вина в рот не брал. Все чаще перцовки от простуды иль водочки для апетикта. Неужели по сорок рублей каждая бутылка стоит? Поразительно, да и только! На сорок рублей месяц можно было жить в ус не дуя.
Гений сыска решил зайти в «Вену», где уже не был несколько месяцев и где в старые, милые сердцу времена приятно проводил время с Джунковским, Шаляпиным, Горьким, Буниным… Он рассуждал: «Пообедаю, а заодно, глядишь, встречу кого-нибудь из добрых знакомцев. Все вино, что в корзине, выпьем, то-то радости всем будет!»
Но когда он завернул за угол улицы Гоголя и Гороховой, то увидал разбитые витрины. На входе висело откровенное объявление: «Сегодня ресторан закрыт из-за бандитского налета. Милости просим приходить завтра».
Соколов вздохнул и в очередной раз ругнул революционные перемены.
Мистическое место
Солнечная погода, как часто бывает в Петрограде, в одночасье сменилась ненастьем. С моря вдруг порывами задул могучий ветер, пригибая молодые деревца, срывая листья, ломая толстые ветви, начисто сметая с асфальта семечную шелуху, обрывки газет, воззваний и приказов – всю мерзость жизнедеятельности революционного города.
Мгновение – и ветер стих, уступая место необъятной сизой туче, тяжело приползшей с Финского залива. Людей тоже как ветром сдуло, а те, кто еще не укрылся, торопились со всех ног.
Сплошной стеной хлынул водяной потоп, пахнущий чем-то удивительно свежим, похожим на запах разрезанного арбуза. По булыжной мостовой понесся, пенясь и пузырясь, водяной поток. Рубиново полоснула молния, на краткое мгновение соединив небо и землю. Прямо над головой раздался страшный сухой треск, и раскатистый звук удара заметался между тесно стоящих домов.
Соколов встал под козырек роскошного, с богатой лепниной особняка на Гороховой улице, что под номером 64. Вдруг вспомнил: «Ведь тут Григорий Распутин совсем недавно жил! Бывал много раз в его квартире под номером 20: обильные застолья, задушевные беседы – открытый и необыкновенный человек он был! Пытался я спасти Гришу, но судьба, видать, сильнее нас, по-своему распоряжается. Как верно Гриша предсказал: «Пока я жив, волоска не упадет с головы наследника, не станет меня – все прахом пойдет». Вот не стало Гриши, все рухнуло, пошло прахом. Интересно, кто сейчас живет в его квартире? Дочери? Господи, как чудили мы! До войны словно на двадцать лет моложе были! Однажды с Гришей пили семирублевое шампанское, а закусывали огурцами, ибо другой закуски у него в доме не было. Здесь я познакомился с Верой фон Лауниц…»
Мимо, вызывая фонтаны брызг, гремели трамваи, шуршали дутыми резиновыми шинами легкие коляски, фыркая сизым газом, пронесся автомобиль, тяжело гремели по мокрым булыжникам металлические ободы тяжело груженных телег. Пешеходы, не спрятавшиеся от дождя, с опасностью поскользнуться перебегали улицы, отважно перепрыгивая через глубокие лужи.
Дергая мокрыми ременными вожжами, погоняя пару и без того резвых лошадей, пронеслась с поднятым верхом коляска лихача. Прокатив еще саженей пятнадцать, коляска притормозила, извозчик взял влево, описал круг и теперь остановился рядом с Соколовым. Знакомое усатое лицо Горького выглянуло из-под кожаного возка. Глуховатый голос весело проокал:
– Почто тут киснет муж вида атлетического? Неужто под сим козырьком от водяных струй оберегается бесстрашный Соколов? А слух был, что он ничего не боится. Если разобраться, все чего-нибудь да боятся. Садитесь, граф, ко мне в кибитку. Авто мое сломалось, так вот допотопным образом передвигаюсь.
Соколов вспрыгнул в коляску, и она под тяжестью тела осела, заходила на рессорах. Улыбнулся:
– Алексей Максимович, истинно говорю: вам везет! Моя корзина наполнена бутылками чудных вин: «Шато д’Икем» урожая девятисотого года, «Шато Лафит-Ротшильд» 1875 года и нечто невероятное – бутылочка излюбленного вами «Шато Марго» грандиозного 1865 года. Каково?
Горький был одет в дорогой, английского пошива костюм. Зеленые глаза скользили по собеседнику, надолго на деталях не задерживаясь. Он откашлялся, прогудел:
– Такого не может быть! Толпы разбушевавшихся скотов, которых газетчики лживо именуют революционным народом, а я называю бандитским сбродом, две недели только тем и занимались, что грабили винные погреба Петрограда. Напившись, били друг друга по башкам и, свиньям уподобляясь, валялись в крови и грязи. Вина, увы, больше не осталось.
– Осталось – в этом саквояже.
– Хм! Однако вы сказали: «Марго» шестьдесят пятого года?
– Это был изумительный для виноделия год.
– Все-таки невероятно! Этой роскоши нынче не существует в природе вещей. Хочу своими глазами убедиться, покажите! О, вижу, вон какое дело… И что вы, граф, предлагаете с этим невероятным добром делать?
– Выпить вместе с вами, Алексей Максимович!
– Хорошая мысль, добрая – совокупно посидеть за столом. Выпивка во благовремении расширяет и углубляет душу – вместилище впечатлений бытия. Приглашаю ко мне домой! В один миг заботливые женщины стол обильный накроют…
– Меня Джунковский ждет. Так что едем к нему.
– Джунковский? Но газеты пишут, что он на фронте!
– На несколько дней вызван сюда Чрезвычайной следственной комиссией.
– Любопытно, однако! Но прилично ли мне без приглашения?
– Алексей Максимович, я вас приглашаю, а с генералом мы друзья. Ему приятно будет вас видеть.
– Не шутите? Не опозорюсь ли?
– Серьезно говорю – обрадуется.
Горький задумчиво поскреб длинными пальцами морщинистую щеку, решился:
– Коли такое дело… Он где живет?
– Загородный проспект, дом три.
– Это в Московской части. Эй, Федор, уснул? Погоняй животных! Мы прошлый раз, помните, года два назад, собравшись в «Вене», жарко спорили. Но не доспорили.
Соколов подвел черту:
– Сегодня и продолжим давние разговоры.
Душевный разговор
Коляска, словно наматывая воду на спицы, стремительно продолжила путь по затопленной мостовой. Дождь хлестал как из ведра, вздувая в лужах большие пузыри.
Горький, чуть покачиваясь в такт движению, убежденно говорил:
– Русский человек, если он окончательно не пропащий, выпивает только для того, чтобы откровенно поговорить, душу свою распахнуть, вывернуть наизнанку.
– Или для того, чтобы набить морду ближнему.
– Вот-вот! У нас любят бить морду. У русских это в самой натуре – ненависть к ближнему, особенно если этот ближний силен и богат. Вот почему сильные и богатые не живучи у нас. Любимый герой русской жизни и литературы – несчастненький и жалкий неудачник. Все любят Акакия Акакиевича, потому что ему завидовать нельзя. Народ любит арестантов, когда их гонят в кандалах на каторгу. И со свирепым удовольствием помогает надеть халат арестанта сильному человеку своей среды. А сколько красных петухов озарили страшные и темные углы России – это жгли и будут жечь предприимчивых, трезвых и богатых, вышедших из крестьянской среды.
Соколов ничего не ответил, лишь подумал: «Нам народ не переменить!»
Горький спросил:
– Это правда, что вы в одиночку германскую подводную лодку потопили?
– Потопил, но не в одиночку. Для этой диверсии меня целая группа специалистов готовила.
– Сделайте одолжение, расскажите, как это было! Должно быть, очень опасное дело…
Соколов вкратце поведал историю взрыва на «Стальной акуле».
Горький восхитился:
– Удивительно, на какие геройские поступки способен русский человек! А что, Джунковский ведь тоже вернулся с передовой? Вот есть о чем расспросить. Да и про вас легенды давно слагают. Но у нас газетчики ох как горазды врать. Одно слово – бессовестный народ. Ему гонорар не плати, но дай что-нибудь этакое ввернуть, чтобы публика ахнула, обомлела. Все ошарашены, а он, подлец, ходит, ухмыляется, мол, ловко я всех обдурил! Порой, право, не разберешь, что врут, а что правду пишут. Про меня какие гадости только не сочиняли! Недавно одна паршивая газетенка напечатала, что я будто бы избил Ольгу Книппер-Чехову и хотел ее изнасиловать. Каково, пятидесятилетнюю женщину? И чтобы судебного иска избежать, оговариваются: «Как нам стало известно из непроверенного источника… Мы хотя и сомневаемся, но доводим до сведения почтенной публики». Истинно остолопы и прохиндеи!
Соколов сказал:
– Сегодня утром Владимир Федорович был у Керенского.
Горький оживился:
– Вот оно что? – Внимательно посмотрел на Соколова, пожевал рыжеватый ус, выплюнул его и покачал головой: – Видать, у Керенского совсем плохие дела, что начал советоваться с боевыми генералами. Поначалу ходил гоголем, ни с кем не советовался, считал, что сам ужасно умный.
Коляска, влекомая быстрыми и сильными лошадьми, неслась стремительно, влетая порой в лужи и выбивая на тротуар фонтаны брызг. Горький с недовольством ткнул лихача в спину:
– Идол, зачем людей грязью обливаешь? Хотя они и пешеходы, однако всякого человека уважать надо! – Повернулся к Соколову: – Граф, доложу собственное мнение: Керенский не случайно пригласил именно Джунковского. Интереснейший, понимаете ли, он человек, Джунковский. За все берется добросовестно: губернией управлять, музеи открывать, жуликов ловить, германцев воевать. На фоне российской беспечности и расхлябанности – замечательное явление, редкое. Русский человек в массе своей ленив и бестолков, но именно на Русской земле рождается много людей, талантом отмеченных, необычных. Поверьте мне, я давно этот феномен наблюдаю. – Улыбнулся. – А вы, граф, к какой категории людей себя относите?
– К любителям хорошего вина!
– Прекрасное дело вино, – одобрил Горький. – Но красивые женщины еще лучше. Любовь помогает проникать в тайны жизни.
…Коляска остановилась у дома Джунковского.
Знаменитый гость
Завидя Горького, хозяева обрадовались:
– Вот это приятный сюрприз!
Соколов передал Джунковскому бутылки:
– Осторожно, не взбалтывать! – С любопытством спросил: – Ну, как Керенский? Кого нынче он изображал?
– Одетого с иголочки актера, который исполняет главную роль в водевиле, причем слова актер не успел выучить и по этой причине постоянно несет ахинею. Керенский спрашивает меня: «О чем вас допрашивали в комиссии?» Отвечаю: «Много вопросов было и почти все бестолковые. Вряд ли стоило из-за этой ерунды боевую дивизию на произвол судьбы бросать…» Керенский обиделся за комиссию. Он был одним из главных создателей ее и продолжает считать эти допросы важным делом. Жаждет найти виновных в развале России и предать суду.
Горький усмехнулся, поплевал на пальцы, подкрутил усы, пророческим тоном произнес:
– О себе он не подумал? Вот, с себя мог бы смело начать! Долго ему на троне не сидеть – это дело очевидное. Отправят его в Сибирь, и он будет повторять известную поговорку каторжников: «Дальше едешь, тише будешь!»
Заметив интерес к своим словам, Горький продолжил:
– Впрочем, коли ссылать, то надо многих. Еду вчера в издательство к Зиновию Гржебину, вскакивает на подножку коляски оборванный мальчишка, сует мне открытки: «Дяденька, купите Распутина со своими распутницами, коней крал – в царский дворец попал». Я эти открытки и кучу грязных брошюр видел уже в первые дни революции. Какие-то бесстыдники выбросили в продажу отвратительные фотографии и брошюрки на темы «из придворной жизни». Речь идет о «тайных историях», разумеется неприличных, герои которых царица Аликс, «Распутный Гришка», Вырубова и другие придворные фигуры. Толпа любит все превосходительное, царское. Вот почему эти болезненные и садические измышления имеют хороший сбыт на рабочих окраинах и на шумном Невском проспекте. Эта духовная грязь особенно вредна, особенно прилипчива именно теперь, когда в людях возбуждены все темные инстинкты. Авторов и издателей этой мерзости надо без жалости, ради общего блага, отправлять в Сибирь. И вообще, нынче стало скучно, как в духовной консистории. Владимир Федорович, вы что-то начали говорить о Керенском?
Джунковский глубоко вздохнул:
– Керенский произвел на меня впечатление человека легкомысленного, очень переутомленного и подавленного. У него за словами нет содержания. Никакой искры в нем я тоже не заметил, разве что увлечение стихами Блока и энергичное размахивание рукой. Передо мной было просто ничтожество, у которого пороха больше не осталось. Все, что он говорил о войсках, о наступлении, – глупость, он ничего во всем этом не смыслит.
Соколов спросил:
– А когда все-таки начнется массированное наступление на Западном фронте?
Джунковский прищурился:
– Военную тайну хочешь выведать? Скажу точно: не знаю! Знает только правая нога присяжного поверенного Керенского. – Перешел на серьезный тон. – Вам, моим друзьям, наверняка любопытно хотя бы в общих чертах знать обстановку?
Горький отозвался:
– Признаюсь, очень любопытно!
– Тогда, господа, прошу следовать за мной. – Джунковский подошел к карте, которую успел повесить на стене, отдернул марлевую занавеску и привычным движением взял указку.
Горький с интересом разглядывал красные и синие линии, разноцветные флажки, которыми была утыкана карта.
Джунковский сказал:
– После отречения государя от власти и нашей мартовской неудачи на берегах Стохода – это в Белоруссии, вот здесь, западнее Припятских болот, – военные действия практически прекратились. Немецкие резервы и многие дивизии с русского и румынского фронтов стали широким потоком переливаться на западноевропейский театр войны. Смотрите вот сюда и сюда! Создавалось впечатление: пользуясь деморализацией и полным ослаблением русской армии, противник намерен нанести нашим союзникам ряд тяжелых и смелых ударов. Но вопреки этим ожиданиям, германский Генеральный штаб широкой активности на франко-бельгийском фронте проявить не сумел. Германская армия стянула всю свою массу резервов между Ла-Маншем и рекой Энн – здесь и здесь! – и замерла в нерешительности.
Горькому эта лекция очень нравилась. Он сидел, опершись подбородком на руки, и внимательно слушал. Поинтересовался:
– Может, за этой бездеятельностью скрывается хитроумный наступательный план фельдмаршала Гинденбурга?
– Сомнительно! Причина, видимо, в другом. Как доносит военная разведка и агентура, как показывают военнопленные и перебежчики, немцы просто-напросто пухнут с голоду. Ни продовольствия, ни обмундирования в достатке нет, как, впрочем, нет боеприпасов. Тут не до наступления, тут лишь бы позиции сохранить.
Соколов усмехнулся:
– Так что, французы и бельгийцы не желают брать пример с наших солдат и подкармливать немцев хлебом?
– Именно так! Но кроме бедности продовольствием, есть еще более важная причина ослабления германцев: солдаты Гинденбурга устали от войны. Любимым афоризмом немцев стал: «Голод – враг патриотизма!» Нажима с нашей стороны враг не выдержит. Но народу и армии нужен вождь, с именем которого они готовы идти на смерть. А фигура Керенского не героическая, а комическая…
Горький грустно качнул головой:
– Он истеричен, нервен, криклив. Это гоже, когда разрушать надо. А теперь время иное. Теперь повсюду истерика и вопли, вот болезненный пафос Керенского и не годится. Так что России от этого человека ждать хорошего не приходится.
Джунковский согласился:
– Я ушел от Керенского с очень неприятным чувством: Россию мы потеряли – и пожалел, что вообще ходил к этому фигляру.
Горький энергично почесал волосатую ноздрю, сплюнул в большой цветастый платок и с каким-то ожесточением произнес:
– Революцию делают все, и в первую очередь такие, как Керенский, которые себе пуговицу к ширинке пришить не умеют. Идет по Невскому мужичок, вида приличного, в кепке блином и штиблеты ваксой натерты. В руках плакатик, все норовит с этакой гордостью повыше над головой задрать: «Да здравствует революция!» Нацарапано старательно, и всего лишь одна грамматическая ошибка. Спрашиваю: «Ну, господин хороший, сделаете революцию, и чем вы заниматься будете?» Мужичок прямо опешил от неожиданного вопроса, сразу видно – ни разу себе его не ставил. Все же отвечает: «Как – чем? Я лудильщик, у меня клиент постоянный, потому как уважают. После революции буду лудить, только двух-трех помощников бы взять – заказов много». Вы поняли? Революция ему нужна, чтобы больше кастрюль лудить! И так почти каждому, идущему с толпой. Истинно народная свобода – блеф, народу не свобода нужна – мечта, сладкая, приятная, с которой он будет вечером засыпать, а утром просыпаться. Народ живет мечтой. Дайте ему мечту – и он за вами пойдет хоть на край света.
Соколов повернул голову к Джунковскому:
– А как моя просьба – посетить государя?
Джунковский глубоко вздохнул:
– Керенский нашел ее неуместной.
– Этого надо было ждать.
– Керенский не слушал моих доводов. Он вообще не умеет слушать. Он, как настоящий актер, предпочитает сам говорить, говорить…
Соколов не выглядел раздосадованным.
– Я давно заметил: глупый от умного тем отличается, что не умеет слушать. И я на разрешение Керенского не шибко рассчитывал. Надо что-то другое придумать.
Горький согласно кивнул:
– Можно полюбопытствовать, о чем вы, Владимир Федорович, просили Керенского?
Джунковский замялся, решил перевести разговор на другую тему:
– Керенский легкостью мыслей напомнил мне бессмертного Ивана Александровича Хлестакова…
Счастливая мысль
Соколов вдруг интуитивно понял: Горький как раз тот, кто может содействовать его замыслу. И он прямо сказал:
– Алексей Максимович! Мне хочется встретиться с государем. Мне нужен к нему пропуск.
– Однако! – Горький покачал головой. Ему было приятно, что такой бесстрашный и искушенный в боевых делах человек, как Соколов, обращается за помощью к нему, глубоко штатскому. Горький ничего больше не сказал, лишь пил большими глотками вино. На столе уже стояли пустые бутылки.
* * *Застолье продолжалось. Горький с аппетитом ел и жадно пил вино. Вдруг он остановил взгляд зеленых зорких глаз на Соколове:
– У меня родилась идея. Она как раз подходит под ваш характер, который словно создан для авантюрных и опасных приключений. Я постараюсь вам помочь. Но это случится только в том случае, если вы мне обещаете не причинять вреда ни государю, ни его близким. Я не монархист, тем более я не поклонник Николая Александровича. Но я не желаю над ним насилия, а многие, в том числе Керенский, нынче твердят о необходимости суда над бывшим царем.
Соколов положил руку на сердце:
– Обещаю, Алексей Максимович, – я не буду действовать во вред государю и его семье.
– Думаю, вам поможет полковник Александр Дмитриевич Носов.
– Начальник фельдъегерского корпуса?
Горький раскурил папиросу, и ароматный дым поплыл по гостиной. Он с усмешкой произнес:
– Носов был начальником корпуса много лет. Вчера приехал ко мне, лица на нем нет, почернел от горя. Спрашиваю: «Что произошло?» Отвечает: «Керенский только что освободил меня от должности и сразу же вручил предписание: явиться в штаб Юго-Западного фронта не позже пятнадцатого июня». Носов стал просить заступничества, да я с Керенским не общаюсь.
– И за какие провинности? – спросил Соколов.
– Причина банальна: Носов недоволен новыми порядками. И он имел неосторожность высказать неудовольствие Керенскому. Это и стало причиной отправки Носова на фронт. Так вы, граф, знакомы с этим героем?
– Едва-едва, только шапочно.
– Но о ваших подвигах он наверняка слышал. Носов очень раздосадован, считает себя оскорбленным.
– А я при чем?
– Фельдъегери народ вездесущий, повсюду проход имеющий. Догадались, граф?
Соколов задумался, потом воскликнул:
– Замечательная идея, если… если Носов захочет и сможет помочь. Впрочем, от него многого не надо: фельдъ егерскую форму на мой рост, фирменный пакет для писем и пропуск на бланке.
Горький вновь задумчиво почесал ноздрю, с расстановкой произнес:
– Думаю, если я попрошу Носова – дело выгорит. Тут понятно – Носов разъярен. Ему терять нечего – впереди окопы и вражеские пули. Он с радостью насолит нынешним правителям. Я нынче же позвоню домой Носову на Фонтанку и попрошу приехать ко мне, все объясню. Вы, Аполлинарий Николаевич, где остановились?
– Пока у Владимира Федоровича.
– Оставьте мне номер вашего телефона, и я сегодня же извещу вас.
Джунковский посоветовал:
– Алексей Максимович, не рекомендую по телефону говорить лишнее. Бывший «черный кабинет», прежде занимавшийся исключительно перлюстрацией писем, в военное время распространил свои интересы и на телефонную станцию.
Горький согласно кивнул:
– Хорошо, буду соблюдать конспирацию. – Добродушно засмеялся. – Кого-кого, но непременно слушают Горького! Спасибо вам за столь изумительное вино, от которого душа поет.
Сев в коляску, он задержал руку Соколова и с какой-то печальной интонацией произнес:
– «Русский народ – народ великий…» С этим можно соглашаться или спорить, но что толпа безумна и опасна – факт очевидный, а подлец-человек способен на любую мерзость.
Алексей Максимович стремительно укатил прочь.
Джунковский хитро подмигнул Соколову:
– Если «властитель дум» серьезно возьмется помочь, то дело удастся, Горький – человек громадного влияния. Но в случае провала…
– Что будет в случае провала? Меня отправят на фронт? Вот это меня нисколько не страшит… – Соколов бросился к Джунковскому, оторвал его от земли и закружил, только генеральские ноги летали по воздуху. Наконец поставил на землю и весело произнес: – Пойдем в дом, Владимир Федорович, выпьем за благополучное избавление царской семьи от позорного заточения. Ура!
Джунковский остудил пыл гения сыска:
– «Ура» будем кричать, когда царственные узники окажутся в Германии или лучше в Англии. А теперь следует серьезно обдумать наше дело…
* * *Часа полтора стратеги обсуждали различные варианты смелого плана, но, не зная деталей содержания царской семьи, они шли как бы на ощупь.
Наконец Джунковский сказал:
– После обеда, по древнему обычаю, положено вздремнуть, – и ушел в спальню.
Соколову осталось одно – ждать сигнала от Горького. Ожидание для гения сыска всегда было мучительным. Он тихо задремал, сидя в глубоком кожаном кресле.
Через час затарахтел телефон. Горький проокал:
– Вам назначено свидание на сегодня, в девять вечера. Подъезжайте к дому под номером девяносто, что на Фонтанке.
– Большое спасибо, Алексей Максимович! – бодро сказал Соколов.
Смелый план
Полковник Носов оказался высоким, хрупким человеком лет сорока. На узком лице выделялись крупные темные глаза, на мир взиравшие с глубокой печалью. Подобно Джунковскому и Соколову, он был преображенцем. Полковое братство роднит. Носов прямо сказал:
– Я Керенского с его недоумками люто ненавижу, так как они – погубители России. Я монархист и этого нигде не скрываю.
Соколов охотно согласился:
– Нашему народу нужна крепкая власть, власть царя. Причем этот царь должен быть грозным, владыкой всех пространств и всего живого. А слюнтяев, демократов, интернационалистов, кокаинистов, гомосексуалистов и прочую рвань наш народ не приемлет. Уж так устроен русский человек: ты его вначале напугай, а уж потом окажи ему милость, не казни. Он должен чувствовать твою волю, твою власть. Тогда человек в тебя поверит, восхитится твоей силой, пойдет за тобой, куда прикажешь, – хоть весь мир воевать, хоть столицу на гнилом болоте строить.
Носов горячо продолжал:
– Я добивался только одного – порядка во всем. Работать фельдъегерем без должной дисциплины – все равно что фармацевту лекарства составлять с завязанными глазами. Мой корпус был хорошо отлаженным механизмом. Но пришло к власти Временное правительство, и начались беды: у нас были три авто, два отобрали вовсе, а для третьего с трудом выбиваем бензин, порой хожу на поклон к самому Керенскому. Денежное довольствие сделали нищенским, семьи кормить не на что, а у меня двое, простите, маленьких детишек. На что жить? С кистенем на дорогу выходить? Штат сократили втрое, вот и приходится дежурить ежедневно по двенадцать – пятнадцать часов. Но главное, что меня возмущает, – Керенский смеет упрекать нас, – и голосом Верховного главнокомандующего выкрикнул: – «В трудный час, когда родина собирает последние силы для решающего удара, вы, фельдъегери, от фронта прячетесь!»



