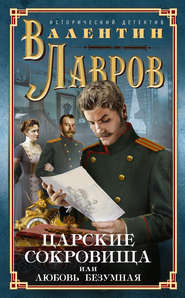
Полная версия:
Царские сокровища, или Любовь безумная
Наконец, председательствующий вытер пот со лба и покрутил головой:
– Мы, так сказать, хорошо поработали. У господ членов комиссии нет вопросов? Вы, Владимир Федорович, свободны. Объявляю перерыв на обед.
Поэтическое прозрение
Джунковский облегченно вздохнул и направился к выходу. В приемной его догнал поэт Блок. Он как-то странно, сбоку, взглянул на генерала и глухим, едва слышным голосом, словно стесняясь, прошептал:
– Александр Федорович Керенский, зная о вашем допросе, просил меня передать… приватно, – и протянул пакет. – Завтра в одиннадцать утра ждет вас у себя, в Морском министерстве.
– А почему приватно?
Блок потупил красивые оленьи глаза:
– Понятия не имею. Сейчас вообще многое делается секретно.
– Большое спасибо, Александр, простите, запамятовал отчество!
– Александрович! – подсказал Блок. Он шел рядом, словно желая продлить беседу.
Джунковский приличия ради спросил:
– Как нынче, стихи пишутся?
Блок взглянул на Джунковского безумным взглядом. Лицо его было измучено, оно выдало душевные страдания.
– Какие стихи? Все погибло, впереди апокалипсис, конец света…
Джунковский возразил:
– Не надо поддаваться унынию, Александр Александрович! Вы знамениты, талантливы, вам надо творить…
Блока словно прорвало. Он заговорил как-то спутанно, отрывисто:
– Ах, зачем творить! Наша интеллигенция уже столько сделала дурного, что на двадцать поколений хватит, не расхлебать. Все требовали революцию, свержения… Ну, свергли… Еще хуже сделалось, совсем плохо. Война вот… Скажите, правда (мне Горький передавал, сам слыхал как верное от фронтовика): в сырых окопах офицеры используют солдат вместо матраса: укладывают их в жижу, а сами ложатся сверху, чтобы комфортней было? А, неужели правда? Ведь это бесчеловечно, солдат тоже душу имеет.
– А вы сами в это верите?
– В наши дни девальвации моральных ценностей и оголенной беспринципности все возможно.
– Горький сказал вам чушь, этого не бывает. Лживые слухи распространяют большевики и газетчики, оплаченные кайзером. Поверьте мне, Александр Александрович, такого офицера тут же отдали бы под военный трибунал. Нынче беда в ином: солдаты выходят из повиновения, сплошь и рядом не желают подчиняться приказам офицеров, бегут с фронтов.
Блок, кажется, не слушал, угрюмо глядел куда-то в паркет. Вдруг он резко поднял глаза, и зрачки у него болезненно расширились.
– А как теперь, после этой ужасной войны, быть с человечеством? Ведь оно больно, и больно неизлечимо. Для чего Эвересты трупов, горькие океаны крови? Кому это надо? И вы, ваше превосходительство, принимаете участие в этом всемирном преступлении. Нет, я вас, Владимир Федорович, не осуждаю, я не имею права на такую роскошь – на осуждение. Но я спрашиваю: кому это безумие надо? Вот вы – военный начальник, а этого не знаете. И государь Николай Александрович не знал. И Керенский подавно ничего не понимает. А я поэт и потому правду прозреваю.
– И в чем она, ваша правда?
– А в том, что человечество давно сошло с ума. Ведь отдельные люди лишаются разума, вы не станете возражать?
– Нет, не стану.
– Так и вся многомиллионная масса свихнулась, и поступки ее необъяснимо дики, неразумны. Но если индивидуума можно посадить в психиатрическую клинику, то как человечество упрятать в палату номер шесть? Впрочем, сейчас меня, кажется, осенило. – Блок упер в Джунковского остановившийся взгляд, поднял брови и заговорил, словно в бреду: – Человечество уже живет в психиатрической лечебнице. Эта лечебница – весь земной шар. – Он руками изобразил круг и лихорадочно закончил речь: – Только человечество никто не лечит, ему не делают уколов, и потому оно болеет, болеет… Потом снова будет война, еще более страшная. И еще, и еще – без конца! Это ужасно, это сознавать невозможно, грудь давит… – И Блок пошел прочь какой-то нерешительной шата ющейся походкой, не оглядываясь и что-то бормоча себе под нос.
Джунковскому стало не по себе. Он лишь мысленно повторил: «Человечество сошло с ума». Но было ли оно когда-нибудь нормальным?
…Вернувшись домой, поэт Блок занес в записную книжку свое впечатление о «красавце генерале» Джунковском: «Говорит мерно, тихо, умно… Лицо значительное. Честное. Глаза прямые, голубовато-серые. Очень характерная печать военного… Прекрасный русский говор».
Хвостатый друг
Возвращался с войны и граф Соколов. Возвращался, выполнив приказ государя, которого теперь унизительно называли «бывшим». Граф совершил беспримерный подвиг – пустил на дно кровавую германскую субмарину «Стальная акула»[1].
Случилось это в апреле семнадцатого, но газетчики, увлеченные описанием крушения империи и демонстраций под демократическими лозунгами, этого подвига почти не заметили.
Да и кому он был нужен, подвиг?
Армия распадалась, разлагалась, лишь кое-где, в отдельных дивизиях и корпусах, еще поддерживалась железной волей и авторитетом командиров. Старая государственная машина с ее аппаратом развалилась, а новая создана не была.
Герои теперь были не нужны. Теперь все бежали с фронтов и нужны были железнодорожные эшелоны и крошечное свободное местечко на полу, хоть возле туалета, хоть на крыше.
Путь гения сыска домой оказался долгим, полным опасных приключений.
Наконец, в начале июня граф прибыл в Северную столицу. Он еще не ведал, что именно в эти дни он сделает первый шаг к самому опасному и, увы, последнему подвигу своей бурной и вполне героической жизни.
* * *Евдокия Федоровна Джунковская, фрейлина императрицы Марии Федоровны, среди множества общественных должностей, была еще председателем общины Святой Евгении. Община эта служила поддержкой сестрам Красного Креста и возникла в начале восьмидесятых годов. Силу община набрала лишь при деятельной и умной Евдокии Федоровне. Именно ей пришла мысль печатать открытки с картин выдающихся мастеров – Репина, Бём, Бенуа, Переплетчикова, Маковского и прочих, и общий тираж их превысил тридцать миллионов.
Община по милости государя занимала большой участок на Старорусской улице, по соседству с Невой. Здесь за забором, в густом парке жила фрейлина, а до отъезда на фронт и ее знаменитый брат, не обремененный семьей и имевший в доме кабинет, библиотеку и спальню.
Дом был построен в глубине парка по всем правилам классицизма: с портиком, с изящным фронтоном, мраморными колоннами и широкой лестницей, которая вела к тяжеленным резным дверям из мореного дуба. В мертвенном свете белой ночи это архитектурное величие казалось волшебным призраком.
Шел второй час ночи, и кругом царило безлюдье.
Вдруг некая таинственная фигура в офицерской шинели и с заплечным мешком возникла возле кованых ворот. Высоченного роста человек попытался раздвинуть их, но створы ворот были прочно опутаны толстой цепью и закрыты на тяжеленный замок.
Пришелец побрел вдоль ограды, внимательно приглядываясь к ее толстенным прутьям. Наконец нашел один, слабо укрепленный в цоколе. Оглянулся по сторонам – патрулей не видно. Человек громадными ручищами уцепился за прут, выдрал его из основания, только вывалились кирпичи из цоколя и запахло цементной пылью. Далее человек с непостижимой легкостью загнул прут вверх и протиснул свое громадное тело внутрь, за ограду. Пробираясь по густому, заросшему парку, он осторожным шагом направился к дому.
Вдруг затрещали кусты роз, и оттуда выскочила большая лохматая овчарка. Широкими прыжками она неслась наперерез пришельцу. В сажени от своей жертвы овчарка остановилась, ощерила верхние клыки, глухо зарычала, присела на передние лапы, примеряясь к решительному прыжку, чтобы перегрызть чужаку горло.
Человек сорвал ветку. Внимательно следя за овчаркой, смело пошел на нее, властно приговаривая:
– Цыц, стоять! На место, зверюга сердитая! Я еще свирепей, чем ты. Р-р-р…
Овчарка втянула влажным черным носом воздух и сразу как бы обмякла, сменила злобу на добродушное урчание, завиляла хвостом. Человек улыбнулся:
– Фало, дружок! Никак, это ты, старина? Ну, иди ко мне, Фало, собака ты полицейская, заслуженная. Немало с тобой мы бандитов переловили. – Человек подошел к овчарке, присел, почесал ей за ухом. Собака лизнула руку, сладострастно зажмурила глаза, подняла морду вверх. – Как тебя из Москвы сюда занесло? Ну и встреча. Рада, глупышка? И я рад. Ну все, хватит с тебя, хочу музыку твоих хозяев послушать.
Романс
Действительно, на первом этаже высокое, тщательно промытое венецианское окно было открыто, из него неслись звуки рояля, сладко таявшие в призрачном безмолвии. Приятный женский голос напевал:
Не ветер, вея с высоты,Листов коснулся ночью лунной –Моей души коснулась ты:Она тревожна, как листы,Она, как гусли, многострунна!Мужской голос подтянул:
Житейский вихрь ее терзал…Пришелец уцепился за окно, подтянулся и осторожно заглянул внутрь. Он разглядел в большой гостиной фрейлину, сидевшую за роялем. Ее лоб был высоким и чистым. Густая коса каштановых волос падала ниже узкой и гибкой талии. Рядом, упираясь локтями в полированную крышку рояля, спиной к окну стоял широкоплечий мужчина в домашнем костюме.
Певцы самозабвенно и дружно продолжили:
И сокрушительным набегом,Свистя и воя, струны рвалИ заносил холодным снегом…Пришелец решил поддержать дуэт. Он пробасил:
Твоя же речь ласкает слух,Твое легко прикосновенье…Фрейлина испуганно вскрикнула. Мужчина на мгновение оторопел, но тут же пришел в себя. На округлом лице зашевелилась жесткая щетка усов. По привычке хлопнул себя по бедру, где обычно висела кобура, но которой сейчас не было, и все же решительно шагнул к серевшему в оконном проеме силуэту.
– Чего надо? – Голос мужчины звучал угрожающе.
Пришелец, напевая мелодию, нахально перекинул мешок и сам влез в окно. Он спрыгнул на скрипнувший под тяжестью крупного тела паркет и с упоением пропел, с нарочитой томностью заламывая руки, заключительные строки романса:
Как от цвето-ов летящий пух,Как майской ночи ду-унове-енье.С укоризной взглянул на фрейлину:
– Евдокия Федоровна, почему вы перестали мне аккомпанировать? Вы так прекрасно играете! Это правда, что сам Сережа Рахманинов давал вам уроки и рекомендовал выступать на сцене? Позвольте, сударыня, поцеловать вашу ручку. М-м-м, чудесно! А это что за остолбенелая фигура в статском костюме жадной ладонью шарила по тому месту, где должна висеть кобура? Ваш револьвер, господин генерал, лежит на козетке. Как младший по званию, сейчас подам его вам. Евдокия Федоровна, неужто этот очумелый персонаж – ваш знаменитый и отважный брат, бывший губернатор Москвы, бывший командир Отдельного корпуса жандармов, бывший товарищ министра внутренних дел Владимир Федорович Джунковский? Впрочем, унывать не стоит, теперь все достойные люди, на которых держалась империя, стали бывшими.
Хозяева наконец вышли из столбняка. Джунковский бросился к гостю, заключил его в объятия:
– Аполлинарий Николаевич, здравствуй, голубчик! Вот это сюрприз! Дай тебя расцелую, милый друг. Ты словно с неба свалился! А где наши двое охранников? И как же тебя наша овчарка не разорвала?
Соколов удивился:
– Охранники? Наверное, спят после выпивки. А что касается овчарки… Ну, это кто кого.
– Как же, как же, по дороге в Царское Село, когда на праздник Рождества ехал к государю, ты волка задавил голыми руками. Сколько лет прошло с той поры?
– Всего года четыре, а ощущение – целый век минул… Кстати, как знаменитая разыскная собака к вам попала?
Джунковский ответил:
– Когда в пятнадцатом году я покинул министерский пост, в канун отъезда на передовую зашел в сыск проститься. Фотограф Ирошников тут как тут: «Фало заболел тяжело, придется усыпить его!» Я обиделся за знаменитого Фало: «Пса с собой заберу». Так и сделал, отправил собаку с сопровождающим в Петроград, а моя милая сестрица Евдокия Федоровна кобеля вылечила.
Фрейлина согласно кивнула:
– Фало – овчарка редкой грюнендальской породы, хозяевам предана, к чужакам беспощадна. Вся округа знает ее свирепость, боятся к нам лезть. – Подошла к Соколову, погладила его плечо. – Вы сильно изменились, Аполлинарий Николаевич…
Джунковский усмехнулся:
– Нет, сестренка, наш граф остался таким же ловким на проделки, как в молодые годы! Это надо додуматься – в окно залезть. Сейчас столько всякой рвани расплодилось, что я мог бы вгорячах пристрелить…
– Не мог бы! Я вначале убедился, что на тебе кобуры нет. На курок спешат нажать слабонервные, а ты у нас олицетворение мужественного спокойствия.
Хозяева рассмеялись, и эта радость, которую они давно не испытывали, на мгновение вернула в стародавние счастливые времена, когда на душе царил вечный праздник.
– Я в газетах прочитал, что тебя, Владимир Федорович, затребовали с передовой на строгий допрос в Чрезвычайную комиссию. Понял: ты в Петрограде. Если бы ты знал, как мне нужен! Хотя у нас больше нет нормального государства, а есть территория, но у меня дело истинно государственной важности.
– Я думал, что ты, милый друг, зашел ко мне по старой дружбе, а ты – из корыстных побуждений. Ну, и для чего я тебе понадобился? Что за таинственное дело?
– Вначале давайте ужинать, – сказала фрейлина. – Прислуга на своей половине давно спит, но я сей миг разбужу… Им нынче просторно – осталось всего трое: горничная, повариха да истопник. Все остальные разбежались по своим деревням – помещичье добро делить, да теперь и сытней в деревне.
Соколов подошел к фрейлине, взял ее за руки и ласково сказал:
– Евдокия Федоровна, не беспокойте прислугу. Теперь такие времена, что лишние уши – дело напрасное и опасное.
Фрейлина согласно качнула головой:
– Удивительно, но люди, почти одновременно с февральским переворотом, так переменились, так испортились, что донесут и на мать родную.
Соколов сказал:
– Докладываю, что я перешел на полулегальное положение. Случилось это нынче в половине восьмого вечера. Вот почему я проник к вам тайным образом. С нанесением повреждения вашей кованой ограде.
Джунковский поморщился:
– Граф, ты ломал ограду? Небось ради своего экстравагантного нрава?
Фрейлина с любопытством смотрела на Соколова:
– Аполлинарий Николаевич, вы опять чего-нибудь набедокурили?
– Обязательно набедокурил! Я воспитывал торжествующего хама. – Соколов извлек из заплечного солдатского мешка три заплесневелые бутылки. – Это «Марго» урожая благословенного 1874 года. Покойный батюшка словно сердцем чувствовал государственные катаклизмы, в свое время изрядно запасся этим божественным напитком.
Джунковский приятно удивился, разглядывая этикетки. Фрейлина заторопилась:
– Несу все, что есть в холодильном шкафу: маслины, сыр бри, ветчину…
Джунковский объяснил:
– Это мои однополчане позаботились обо мне! Думали, что меня сразу потащат в Петропавловку, дескать, приготовили тюремную передачу… Но пока Бог миловал, за решетку потащат, но позже.
Фрейлина возмутилась:
– Володя, ты что такое говоришь! – Повернулась к Соколову: – Вы, Аполлинарий Николаевич, желаете ветчины?
– Отсутствием аппетита, Евдокия Федоровна, никогда не страдал. Хорошая ветчина с хреном да под красное бордо? По нынешним голодно-революционным временам это буржуазная роскошь.
Джунковский полюбопытствовал:
– И где, милый друг, ты остановился? В отцовском доме?
– В доме на Садовой теперь расположился Совет каких-то депутатов…
– Народ окрестил их метко: Совет собачьих депутатов, – рассмеялся Джунковский. – В Смольном, видите ли, им места не хватило. Надо влезать в частные дома.
– Понятно, что первым делом разворовали все, что еще не успели до них украсть революционные матросы, и сразу же сунулись в излюбленное место – в винный погребок. Но верный слуга, славное порождение времен крепостнических, древний Семен еще прежде умудрился перепрятать с сотню коллекционных бутылок в погреб, вход в который так замаскировал, что революционные массы его не нашли. Учитывая пролетарское происхождение Семена и его антикварный возраст, новое начальство разрешило ему на правах дворника остаться в доме. Всех остальных домочадцев прогнали на улицу. И вот теперь этот новоявленный пролетарий, монархист и верный мне человек, рискуя головой, сохранил эти реликты мирного времени и обещал по мере возможности поддерживать меня и впредь.
Фрейлина разложила на столе столовое серебро и обратилась к Соколову:
– Вы давно, Аполлинарий Николаевич, в Петербурге?
– Целую вечность – с нынешнего утра! После эпопеи на Балтике, когда удалось потопить германскую подводную лодку, я попал на миноносец «Стремительный». Тот доставил меня в новый порт Романов-на-Мурмане, что в Кольском заливе. Это от Петрограда чуть меньше полутора тысяч верст. Выдали проходное свидетельство: дескать, полковник охранного отделения такой-то извлечен из воды после потопления российскими моряками германской субмарины. Нынче-де едет по месту службы в Петроград. Ничего глупее написать было нельзя. Полное впечатление, что я германский моряк или шпион. А что я враг революционной разнузданности, так это у меня, кажется, на лбу написано. Нынешнюю свободу я с удовольствием бы малость укоротил. Русскому мужику давать свободу – все равно что поставить перед ним ведро самогона и сказать, чтобы он выпил лишь одну чарку. Выпьет все ведро и с пьяных глаз зарежет жену и сожжет собственный дом.
Джунковский сочувственно покачал головой:
– Каждый патруль считал за дело доблести задержать тебя?
– Именно так! Едва на платформе покажешься, как тут же слышишь: «Гражданин, твое удостоверение!» И ведут под дулами ружей в комендатуру. Вот я и пробирался в Петроград почти полтора месяца. Десять раз меня арестовывали революционные товарищи, пять раз водили на расстрел. Каждый раз удавалось уходить. Однако, друзья, я вновь с вами, вновь вернулся в Петербург. Меня здесь, увы, с цветами не встречали…
Джунковский вставил:
– С музыкой и с цветами у нас встречают лишь германских шпионов – Ульянова-Ленина и его приятелей.
– Да, у нас чем чудней, тем веселей! Я проделал на родину тяжелый путь, кажется, лишь для того, чтобы какая-то рвань не пустила меня в родовой дом. Как вам это нравится?
Фрейлина смиренно вздохнула, перекрестилась:
– За наши грехи Господь посылает испытания!
Пачки денег
Джунковский, ласково глядя на приятеля серо-голубыми глазами, с легкой улыбкой спросил:
– А в своем родовом гнезде, чувствую, ты дров, Аполлинарий Николаевич, наломал?
– Нет, не дров – костей. – Лицо Соколова потемнело. – О гибели своих близких – жены, сына и отца – я прочитал в газетах, едва сошел на берег. Ведь я своими глазами видел, как немцы пустили на дно «Цесаревича Алексея»! Но я не знал, что на его борту находятся дорогие мне люди. И вот теперь, направляясь в свой петербургский дом, я думал прикоснуться к предметам счастливых безвозвратных дней, пожить в родных стенах, отдохнуть телом и душой. Подхожу, наблюдаю: у парадных дверей стоят двое в шинелях, ружья держат как лопаты. Пропускают лишь по удостоверениям. Взглянул я на окна – чужие люди. На балконе какие-то оборванцы самокрутками небо коптят. Я спокойно мог бы задами с черного хода войти – все лазейки с детства знаю, да взыграло во мне самолюбие. По какому праву, пока я воевал, эта тыловая рвань дом мой захватила? Ну и прямиком к мраморному подъезду. Солдаты штыками путь мне преградили: «Свой мандат предъяви!» Я им в личики глянул и шепчу: «Крысы революционные, это мой природный дом, я в детстве тут жил, моя комната на втором этаже». Но они меня не поняли, лишь на «крысу» обиделись, стали обзываться «буржуем недорезанным». Штыки к моей груди приставили, требуют: «Пошел вон, стрелять будем!» Достали полицейские свистульки, щеки раздули – для моего ареста подмогу звать. Я этих вояк за грудки ухватил да затылками о дубовую дверь так шмякнул, что они полумертвые на ступеньки рухнули, только из брыластых ртов свистульки торчат.
Фрейлина перекрестилась:
– Господи, ужас какой! – и отправилась в столовую накрывать на стол.
Соколов продолжил рассказ, а Джунковский внимательно слушал.
– Все произошло столь стремительно, что на эту сцену никто из революционных товарищей внимания не обратил. Я походил по дому, полюбовался мерзостью запустения, окурками и плевками на роскошном пар кете, послушал матюги представителей новой власти. Причем женщины не уступают в этом искусстве мужчинам – эмансипируются! Шныряют из дверей в двери, в зубах папиросы. Я видел изуродованную мебель, порванные штыками картины фламандцев. Там, где была библиотека, трещат машинистки, на полу кучи мусора. В мою спальню притащили столы, на них – горы бумаг, за столами – уголовные типажи. Гостиную перегородили пополам, стащили сюда из других помещений антикварные шкафы и столы. Везде суета неимоверная, шум, гам, орут по телефонам. По коридору слоняются личности в штатских пиджаках и военном галифе, хлопают дверями, переругиваются. Одноглазая бабка, похожая на горьковскую старуху Изергиль, налетела с разбегу на меня, трясет за рукав, орет: «Почему накладные не подписаны? Пойдешь под трибунал!» Дом умалишенных! Уже решил: «Принесу бензин, пролью его в коридорах, снаружи припру двери ломом, подожгу. Пусть сгорит вся нечисть, которая воровским путем влезла в мое родовое гнездо!» Да вдруг смотрю – глазам не верю: с метлой и в дворницком переднике идет наш старинный слуга Семен. Вот это встреча! Обнялись мы, всплакнул Семен и утащил меня в свою клетушку. Вовремя мы ушли: Аники-воины на ступеньках очухались, рыщут, желают меня арестовать. У Семена меня не нашли, а тот открыл тайну: «Когда ваш батюшка в Америку на пароходе поплыли, то перед тем ходили грустный, знать, у него такое предчувствие было. И он передал мне большую шкатулку. Мол, храни, Семен, для молодого графа, то есть для вас. Наказал: там, дескать, фумильные кольца-браслеты, а еще деньги в ассигнациях, потому что он, то есть вы, всегда имеете привычку много транжирить, мол, в кого такой мот, то есть вы, пошли? Теперь имения наши, то есть ваши, в Тверской и Самарской губерниях сожгли, землю крестьяне захватили, и никаких денег оттуда больше впредь не предвидится. Шкатулочку я сразу же в подвале поглубже запрятал и теперь вам, сударь мой, верну. А еще вам есть удовольствие: прежде чем солдаты въехали в наш дом, я в том же подвальчике шесть корзин со старинным вином спрятал. Так что спустимся осторожно и все забирайте, чтоб этим извергам ничего не досталось».
Мы спустились с Семеном в подвал. Там, в углу, находился люк, который вел в небольшое помещение, которое прежде было ледником. Люк был завален разным мусором, а кольцо, чтобы внимание не привлекать, Семен свинтил. В леднике действительно нашел шесть плетеных корзин с редчайшими винами, которые отец так любил. Забрал полдюжины бутылок, вынул из шкатулки несколько пачек денег. Теперь я богат, словно Крез. – Спохватился: – Владимир Федорович, ты помнишь Веру фон Лауниц?
– Как не помнить, когда в четырнадцатом году мы передали через эту Веру пакет с дезинформацией для самого Вальтера Николаи, главы германской разведки!
– Демобилизационные планы России? Да, я Вере передал пакет, и мне немцы даже прислали вознаграждение, – рассмеялся Соколов.
Джунковский широко улыбнулся:
– Но главное, Вера – твоя аманта.
Соколов напустил на себя серьезный вид:
– Любовница? Да, но только в оперативных целях. Так вот, Вера сейчас в Петрограде. Мне Семен сказал, что она днями искала меня на Садовой. – Соколов умолчал, что он скучал об «аманте» и заходил на ее старую квартиру на Невском, но она сменила адрес.
Джунковский удивился:
– Фон Лауницы живут в Берлине! Как Вере удалось пробраться через линию фронта? – Хитро улыбнулся. – Впрочем, для влюбленной женщины нет преград. Ты, Аполлинарий Николаевич, счастливец, от тебя женщины без ума.
Соколов рассмеялся:
– Да, лучше быть без ума от любви, чем от природы…
В это время фрейлина пригласила:
– Господа, ужин подан, проходите в столовую!
Характер народа
Дом Джунковского, точнее, его сестры был обставлен без особой роскоши – все самое обычное, самое необходимое.
В столовой хрустальная люстра отражала блики свечей, зажженных фрейлиной. Большой обеденный стол был накрыт лишь с торца на три персоны, сервирован серебряными приборами и застелен белой шелковой скатертью с затейливыми вензелями фрейлины – «Е. Д.». В фарфоровой вазе белели свежие ромашки. Стекла буфета сказочно играли всеми цветами радуги. Стены были увешаны картинами хороших русских мастеров, многие из которых Джунковский получил в подарок, когда был губернатором Москвы: Поленова, Саврасова, Сергея Виноградова, Репина. Соколов долго любовался большой панорамой Константина Юона «Москворецкий мост», подписанной 1911 годом: зимний город, толпы спешащих людей, едущие сани, груженые возы, трамвай, осторожно катящий с моста, древний Кремль и дымы, подымающиеся из множества труб.



