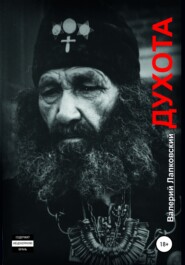 Полная версия
Полная версияДухота
Среди вороха засохших писем вижу почерк Чесночихи… Лунный свет, что в мифологии Египта оплодотворяет корову, тоскующую по быку, струится из её строк:
«…Ваш острый ум не перестаёт поражать меня… О чём бы Вы не рассуждали, Ваши мнения так поразительно не сходятся с мыслями окружающих людей!.. Должны ли мы, считая себя людьми интеллигентными (впрочем, что касается Вас, я точно помню, что в одну из наших незабвенных встреч Вы толковали мне о противном)… Ах, если бы Вы знали, как убийственно сладки руки его, самые тёплые во всём мире, и… рубашка!
Позвольте, что же это такое я пишу?
Я столько раз переписывала и уничтожала эти страницы, оставаясь недовольной или гораздо больше, чем всем остальным, написанным прежде, что, очевидно, отправила в камин (которого у меня нет) и тот последний вариант, кое-как устраивающий меня.
Но коль уж потерянный рассказ о моём Любимом был мной Вам обещан, придётся мне вкратце изложить его, чтобы не слишком разочаровать Вас, хоть я и так слышу Ваш недоумённый возглас: «Как? Вы только что сами изволили сказать, что об этом невозможно ни с кем говорить, и тут же собираетесь доверить жгучую тайну малознакомому человеку?»
Ах, я не только разговариваю о нём с другими людьми, я просто не могу разговаривать ни о чём другом! Поверьте, в этом нет большой беды, ибо какой бы искренней ни была я в своих рассказах, это (скажу Вам по секрету) лишь правдоподобие, ничего общего с истиной не имеющее.
И всё же я поделюсь с Вами тайной моей души…
Дело в том, что я знакома с Ним очень давно: двести лет назад он был моим Королём; за него, не задумываясь, отдала бы жизнь (ведь если у женщины и есть на свете нечто дороже собственной жизни, так это жизнь другого человека)… Тогда не удалось мне спасти его от смерти; и с горьким чувством вины и невосполнимой утраты я ушла вслед за ним… Мы встретились год назад. Он не узнал меня! Но, слава Всевышнему, поверил в искренность моих чувств и позволил остаться с ним (возможно ли быть счастливее?). С тех пор я не расстаюсь с ним ни на минуту! Но как горько иногда видеть недоумение на его лице (свет Божий не знает лика прекраснее, поверьте!) в ответ на моё « – Ты не узнаёшь меня, Любимый?»!
Вы не правы, пусть у всех королей мира память коротка – мой Милый не смог бы забыть меня, если бы не был заколдован.
Никаких отчаянных всплесков руками! Они здесь излишни; разве можно отчаиваться, когда держишь в руках ключ ко спасению… Да, я знаю, кто и как может спасти его… Известно ли Вам, что… рождённые в год собаки – ведьмы?
Я знаю, Вы не суеверны, но ведь это легко проверить – все главные события в жизни ведьм происходят в високосный год, а со мной именно так было всегда (собравшись открыть одну тайну, невольно посвятила Вас в другую). В той жизни, о которой Вам говорила (а у меня этих жизней вдосталь, хоть из них, конечно, не всё осталось в памяти) меня сожгли бы на костре, не уйди я вовремя к своему Королю. Впрочем, вот один самый невинный факт гарантирует мою принадлежность к особой касте женщин: разве могла бы я, не будучи ведьмой, знать ещё в мае, что Он приедет на Покров, и случится это непременно во вторник?
Так вот, Король мой будет расколдован, если к нему, спящему, подойдёт ведьма и поцелует его в синеву глаз! Вы скажете, отчего же я не сделала это до сих пор? Что могло помешать мне, если я не расстаюсь с ним целый год? Ужели за 365 дней не было такого случая, чтобы Король заснул? Ах, в этом есть одна подробность, которая не давала мне рискнуть освободить Любимого от злых чар, не смотря на то, что дважды засыпал при мне (один раз в кресле, другой раз – на диване, и оба раза в октябре): попытаться поцеловать можно только один раз! И нужно быть уверенной, что он спит крепко, если он проснётся до того, как губы ведьмы прикоснутся к его спящим глазам – всё пропало! Он никогда не полюбит. Я слукавлю, если не признаюсь, что не только боязнь потерять надежду на его любовь уберегает меня от рискованного шага; забота о Любимом – вот главное, что движет моими поступками и вызывает во мне множество сомнений: а нужно ли, чтобы он меня любил? Ведь случись это, на него обрушилось бы такое, чего он, пребывая в полном неведении относительно любви, не смог бы перенести… Вы сможете убедиться в этом, если открою Вам ещё одну тайну. Он пишет мне письма! Которые требует по прочтении сжечь. И я исправно бросаю из в огонь, как моцартовская Луиза, обливаясь слёзами – ведь расставанье с его словами – ещё одна разлука, но… воля Короля священна, и я не осмелюсь её нарушить.
И всё же одно драгоценное письмо пламя не смогло полностью уничтожить. Как только оно подкралось и лизнуло бумагу, некто невидимый приказал ему словами Короля, адресованными мне: « – Не лижись, зараза!» – и огонь отступил, оставив мне несколько строк в память о Королеве, которую везут на костёр за то, что не может рассказать, зачем плетёт рубашку… из крапивы…
Я хочу, когда приедете, сыграть Вам «Экспромты» Шуберта…»
Письмо, написанное ею ещё до того, как она принесла мне чеснок для спасения от ворья, пусть положат под подушку в мой гроб, а сам гроб, как архиерейской мантией, накроют её старым халатиком, пропахшим табачным дымом, когда она, улыбаясь, приходила ко мне утром с вычищенными зубами… (если ведьмы умеют сочинять эпистолы и пользоваться зубной пастой…).
XXVIII
– Плесни-ка мне ещё коньяку… Давай за встречу! Не думал – не гадал, что, прилетев на недельку в Крым позагорать, разыщу тебя, да где же? Под боком кладбища! По сей день не знал, жив ли ты?
– Скажи, пожалуйста, жив ли отец Лев?
– «Уже в летех превосходныя старости умащен», но по-прежнему в соборе, там, где некогда вы служили вместе… Не понимаю, почему ты с ним поссорился? Он ни с кем не поддерживал столь тёплых отношений… Ты часто посещал их дом на берегу речки…
– В том доме всегда жили мухи. Даже зимой вились под низким потолком вокруг простенькой люстры… И весь дом был сладкой липучкой для всей епархии… Кто только ни приходил, ни приезжал к Пеликановым?
– Да, тут были и преподаватель из политехникума, и женщина-милиционер, и взрослые дети московского писателя, «соловья генштаба», и дама, вышедшая замуж в третий раз (наконец, за дипломата)…
– …и прихожанки, и дылды студентки, всех не перечислить… И всех поили, кормили, внимательно выслушивали, выписывали благостный рецепт душеспасения, а если кто оставался почивать, как пьяница Петухов, одинокий батюшка из села, Зоя, жена отца Льва, штопала гостю дырявые носки… Мать Пеликанова…
– А, помню, старая актриса!
– Долго выступала на кубанской сцене; одряхлев, ушла из театра, приехала к сыну… Всем, кто приходил к её отпрыску, вежливо делала замечание, как правильно ставить ударения в словах… Как-то обратился к ней: «Дорогая моя…», но барабанщица Мельпомены мгновенно, с ледяным достоинством заявила, что я не имею права фамильярничать… Извинился и сказал: «Радость моя!». Старуха взбеленилась… Чем кончился бы скандал, если бы в беседу не вступил осторожно её сын, мягко подчеркнув, что святой Серафим Саровский именно так приветствовал приходящих к нему людей?
– Лицедейка такое не прощала. Не думаю, что впоследствии ты чувствовал себя в её обществе комфортно.
– Отец Лев заступался за обиженных… Впрочем, до поры до времени, до того момента, пока опекаемый смотрел на него как ученик на учителя, раскрыв рот… Стоило вам трепыхнуться, затеяв хотя бы не настоящий бунт, а пародию на «бледнеющий мятеж»…
– Как это случилось с тобой, молодым священником, которому архиерей в наказание за оплошность запретил служить?
– Когда настоятель собора оболгал меня в присутствии епископа и когда Преосвященный спросил, правду ли тот говорит, я выпалил:
– За такую клевету бью по роже!
– Ах так?! – не менее меня вспыхнул Аминь Аллилуевич. – Тогда вы не священник! Снимайте крест!
Я онемел, завис на цепи наперсного креста, как бросившийся в канцлагере на забор из колючей проволоки, сквозь которую пущен электрический ток.
Владыка сдёрнул с меня крест и выставил вон.
Убитый несправедливостью… решил… уехать из епархии к себе на родину. Никому ничего не сказав, даже Захаровне, у которой снимал комнату для жилья, собрал чемодан… Захаровна, почуяв неладное, сперва помчалась к отцу Льву, а затем поймала меня на вокзале.
На перроне ждал отправления поезд, набитый стриженными призывниками. Перед окном вагона гримасничал солдат без пояса и пилотки, но ещё с погонами на плечах.
– А у меня – всё! Дембель! – весело, полупьяно кричал новобранцам, в чьё общество на закваске «дедовщины» я опасался попасть после изгнания из университета.
– Вот и у меня «дембель», – грустно заметил Захаровне.
– А чегой-то тебе не остаться на сверхсрочную? – быстро отреагировала задворенка.
– Не хочу быть «сундуком»!
Тут по мановению волшебной палочки, побывавшей в руках Захаровны, возник запыханный отец Лев. Улыбаясь, отвёл меня в сторонку и убедил не делать глупостей…Он переговорит с Его Преосвященством, подготовит встречу, и всё вернётся на круги своя.
– Вы не нужны Церкви! – с ходу наехал на меня архиерей, когда я понуро уже сидел в его кабинете.
– Церкви, достопочтимый Владыко, может, он и, впрямь, не нужен, – деликатно вставил, присутствуя на беседе, отец Лев, – но вот Церковь ему нужна.
– Церкви философия незачем! – не унимался архипастырь. Ему претило, что в своих проповедях я нередко оперировал аргументами светских мыслителей, книги которых он никогда не открывал и, будучи до рукоположения в духовных чин подсобником в артели по реставрации храмов, как-то странно не заметил облик Платона на стене Благовещенского собора Московского Кремля (Между прочим, в анналах охранки он числился именно под кличкой «Реставратор»; когда памятник Дзержинскому смели с площади на Лубянке, он смело, один из всего епископата, признался в печати в тёплых связях с Конторой Глубокого Бурения).
– Почему шатаетесь по кабакам? – ухватил меня за ухо внезапный вопрос Его Преосвященства. И сие было посерьёзнее, чем упрёк в дилетантском увлечении историей философии.
Я вздохнул, как пустая сущность, что в ходе беседы сама возникает из себя в виде вздоха. Бедняга Пушкин считал курский ресторан важнее харьковского университета. – Он и Апулея охотнее читал, чем Цицерона, хотя – праведные боги! – Цицерон не менее захватывающе интересен!
– Неужели Владыка не узрел насколько перезрелые, пузатые Данаи у Рембрандта проигрывают рядом с ню Модильяни, чей каштановый лобок теплится лампадкой пред иконой оранжевого тела?
– Давайте выпьем за ваш вздох, – великодушно предложил Аминь Аллилуевич, поднимая фужер с армянским коньяком, когда полемика в его кабинете увенчалась обоюдным желанием выкурить трубку мира, и мы, втроём, по приглашению епископа сели обедать в его покоях.
После трапезы Владыка поторопился к письменному столу строчить подробный отчёт о недавней встрече с приехавшим на денёк в Курск из Франции высоким гостем, что обязан был делать для уполномоченного по делам религий не только управляющий епархией, но и благочинный, если имел контакты с таким иностранцем, а я, выйдя на улицу, услышал от своего покровителя:
– Из-за тебя сегодня потерял двадцать рублей, мог бы отслужить молебен… Ладно… Пошутил!
– Разве ему не доставало средств?
– По мнению видного экономиста, если в бюджет семьи не поступает каждую неделю, месяц, год устойчивый поток денег, такая жизнь осточертеет семье, даже если она сплошь состоит из святых… Под крылом отца Льва обитали мать, жена, двое детей. Мать, правда, получала незначительную пенсию, Зое тоже кое-что причиталось за пение в церковном хоре, старший сын, студент, только что женился, младший куролесил в школе. Деньги в доме водились, но, учитывая хлебосольство Пеликанова, частые поездки главы фамилии в Москву, где он проталкивал в богословский журнал свои статьи, и ещё… каверзное обстоятельство…
– Какое?
– Потерпи, чуть позже… Хозяин любил вкусно, сытно поесть. За обедом возле него на подносе высилась груда нежных пирожков с мясом, яйцами, капустой…
– …на которую ты взирал с опаской (беспокоясь о своей фигуре), как на горку риса, куда откладывает яйца скорпион?
– Похожую скорее на пирамиду из кусочков ваты, которыми в Великом посту отец Лев отирал плащаницу и благословлял ими прихожанок… Посты, причём все, здесь строго соблюдали; сие требовало от Зои постоянно новых усилий и экономии при тратах на еду. Денег в посту утекает больше, чем обычно. Семья лакомилась белыми грибами и зеленью, как Греция, которая так обожала аромат сельдерея, что украшала венками из листев сельдерея головы победителей на спортивных играх. Укроп и петрушку в Элладе воспевали наряду с фиалкой и розой… Зоя называла себя «гречанкой», считая, что её предки жили в Византии, а там, по свидетельству апологетов, в четвёртом веке на вопрос, сколько стоит починка сандалий, сапожник (не хуже отца Льва) заводил пространную рацею о сущности Пресвятой Троицы!
– Но ты, я помню, никогда не являлся к ним ни с фиалками, ни с розами… Хороший коньяк! Где покупал?
– Однажды, не будучи монахом, отмахивающимся от полотна Рубенса с изображением обнажённой Андромеды, я нечаянно смутил воркотню Зои над принесённым кем-то в их дом букетом свежих цветов репликой о том, что такое бутон орхидеи, с точки зрения биологии…
– Ты сравнил, как Гердер, половую любовь людей и плодов флоры и фауны?
– Я поведал ей о «Разуме цветов» Метерлинка.
– Это произошло, начинаю подозревать, во время твоей работы над книгой, которая рассорила тебя с отцом Львом?
– Мне кажется, что цветы… режут ли их на стол или в гроб… их всегда убивают, как в древности умерщвляли рабов и коней князя, покинувшего этот мир… Запах ландыша и грубый дым росного ладана… Зое почему-то почудилось, что, упомянув ладан, я пытаюсь задеть честь её мужа, любителя покадить у себя в кабинете… Её глаза, опушенные густыми ресницами, вдруг устремились на меня, точно триремы – боевые корабли гомеровских героев, оснащённые тремя рядами вёсел! Протопопица не переносила даже микроскопический намёк на умаление авторитета её супруга. В её глазах он – столп и утверждение Истины! Больше кого-либо печётся о спасении всего мира…
– Да, тех, кто признавал его недосягаемость, отец Лев, повторяю за тобой, охранял, как солдат с ружьём, которого Екатерина Великая поставила в саду подле цветка, чтобы никто не смял первенца весны.
– Он лепил из поклонника своё подобие и тянулся к нему, как Бог на фреске Микеланджело тянется к Адаму, простирая десницу…, будто шланг самолёта, заправляющего в полёте горючим другую машину… Но, если кто уклонялся от его влияния и порой совершал – на взгляд ментора – глупости, он становился гранитно неприступен: «Я не кафедральный аптекарь. Из слёз на исповеди примочек не делаю!».
Его и архиерея мутило от моих керигм. Мерещилось им, вот-вот накормлю приход антиномиями Канта, хотя до философии прусского Сократа общине было такое же дело, как трактористке до колесницы Иезикииля со множеством колёс и крыльев, переплетённых в странном механизме трансцендентальной эстетики двенадцатью категориями, синтезом внутреннего сгорания, единством апперцепции и схематизмом рассудочных понятий.
Пеликанов (и когорта ему подобных) причисляли себя к явлению, знакомое по названию популярного кинофильма «Мы из Кронштадта». Их идеал, щёголь в шёлковой рясе с бриллиантовым крестом, шестириком лошадей, собственным пароходом, – мастер заурядной дневниковой прозы и таких же намасленных проповедей, принятый в Академию наук по разряду словесности, который так любил ближних, что публично умолял Господа убрать с земли ещё живого Льва Толстого, ничего, кроме досады и скуки, у меня не вызывал.
С подсказки отца Льва преблагочестивые старухи подали на меня жалобу архипастырю, мол, не смываю нечистот водою со своего тела, никогда не обмываю ног, не погружаю ступни в святой источник, сиречь несу с амвона, что Бог на душу пошлёт, даже если в храме никого нет, окромя церковной кружки, беседовать с которой любил брат Экхардт.
Но Аминь Аллилуевич сам употреблял не семинаризмы, а термины из светского жаргона: аксиома, коллизия, амбиция, информация, эволюция; робко пробовал внедрить на литургии чтение Евангелия по-русски вместо тёмного, как хороший кагор в чёрной бутылке, церковно-славянского языка, дабы приблизить текст Писания к уму народа. «Муравьиный лев» от этой муры воротил нос, откуда лезли волосы (видел жёсткие железные щётки, насаженные на вал автомобиля, чистящего улицы?).
Преклоняясь перед почтенными ветхими традициями крутой ортодокс предпочитал пользоваться выражениями той поры, когда были одомашнены овца и коза.
Хронометраж моей проповеди: восемь, десять минут. Отец Лев обычно тратил не менее получаса драгоценного богослужебного бдения на приторно-пугливые разглагольствования о бесах и причинах их ввинчивания в юдоль христианина.
– Ты придираешься… Он просто применял доступные разумению широких масс элементарные доказательства. Ты сам говорил, Сократ у Платона оперирует обыденными примерами.
– Речи перед паствой о духовной трезвости… несколько контрастировали с тем, что богогласник (и это знали все) нередко напивался до положения риз… «голова, что пивной котёл, а очи, что пивные чаши»…
– Дешёвый приём с твоей стороны, расчёт ошеломить противника!
– Пить не умел… Надирался и глубокой ночью мог нагрянуть в дом сослуживца с полупустой бутылкой коньяка в кармане рясы. Заспанные «радушные» хозяева, может, из тех, кто за спиной его умеренно потешался над ним, побаиваясь его подковыристости, не смыкали по его милости вежд до зари, а под утро, обзвонив весь город, прибегала измученная Зоя, извиняясь в который раз за визит её мужа, сломленного лишь к рассвету тяжёлой болтовнёй и спящего в хромовых офицерских сапогах (щёголем носил, подражая монахам) на диване под тощим одеялом.
Его знал весь автопарк. Таксисты ценили соборянина за щедрые чаевые, называя между собой: «Кадило в кадиллаке»… Бывало, юркнет в «Волгу», поправит на голове шапку-боярку, стукнет знаменитым посошком с потемневшим серебряным набалдашником (уверял, будто достался ему разными путями от преподобного) и, чувствуя, как внутри закипает удаль от паров Бахуса, давай крутить на машине по городу. Едет-едет, вдруг требует притормозить. Выскакивает в развевающейся чёрной рясе (повсюду ходил в рясе, удивляя в московском ГУМе продавщиц, когда покупал жене комбинашку) и – хвать! незнакомую, изворачивающуюся среди подруг, хохочущую девицу за талию:
– Блудницы!
Те со смехом врассыпную, иные матюкаются, другие стыдят его: ему – нипочём!
Архиерею совсем не импонировало, что отец Лев не расставался с посохом. Не полагалось ему по табели о рангах иметь жезл Ааронов.
– Так то был не жезл, а альпеншток аскета!
– Скорее, прут в руке шимпанзе, протыкающего термитник… Муравьи, защищая гнездо, впиваются челюстями в стенобитное орудие… Так исповедники кусают глубомер, который протопоп опускает в их души… Шимпанзе, вытягивая хворостину и пропуская сквозь плотно сжатые зубы, поглощает насекомых, как протопоп грехи пасомых.
– Ты знал, что отец Нил, кроме посошка, носил ещё вериги?
– На плечах и спине выпирали какие-то мелкие бугры, чего он неподдельно стеснялся, всячески уклоняясь от расспросов, и не допускал, чтобы кто-нибудь прикоснулся к выпуклостям под одеждой хотя бы пальцем.
– Ты видишь в этом скрытый эмблематический смысл или метод его борьбы с собственным алкоголизмом?
– «Да, брат, – грустно откровенничал он со мной, – как напьёшься, так Господь сразу и даёт понять, экая ты свинья… И посылает нам сие ради нашего же спасения, для усекновения гордыни…». Болезнь, впрочем, столь сильно обуздала, что по настоянию Аминя Аллилуевича, который, сдерживаясь, терпел его цирковые номера (однажды даже запер пьяного в своём кабинете, дабы не опозориться перед гостем – каноником из Лондона), уступая ласковым уговорам Зои и матери, а также неких уважаемых прихожан (несмотря ни на что, народ батюшку любил: его келью охранял золотой лев на фоне голубого неба – вышитый руками богомолок настенный ковёр), как ни артачился, как ни упирался, а всё же смиренно поплёлся в Феодосию, к известному гипнотизёру, научно заговаривающему зелёного змия (гонорар местному батюшке после собственной исповеди и Причастия на дому истребитель алкогольного ига выдавал двумя бутылками пятизвёздочного коньяка).
Врач закодировал пресвитера, внушил, коли хлебнёт хоть две-три капли спиртного, ампула, зашитая под кожу, мгновенно обеспечит ему смерть!
Так было или не так, но пить протопоп бросил.
Не потреблял даже после литургии Святые дары, предоставляя очищать чашу диакону… Прекратив бражничать, стал малоразговорчив, чуточку скучен… Зоя молилась, чтоб муж не сорвался с цепи гипноза и неназойливо следила, оберегала в гостях от импортного и отечественного пойла.
Отец Лев, повертев в руках бутылку со стола, рассматривал этикетку, но в рот – ни грамма… Долго держался. Однако в пасхальную ночь… Явился в собор… Где накачался вдрызг – тайна… Может, кто из собратьев постарался, может, сам… Или кончился завод у пружины… И опять – Феодосия, темнила гипнотизёр…
– Ты увлекаешься и никак не расскажешь, что же сломало вашу дружбу, не водка же и не подмётные жалобы старух с подачи протоиерея правящему епископу?
– Пеликанов, уже говорил, писал статьи…
– У его пера была лёгкая походка? И оно конкурировало с какой-нибудь литературной сорокой, без умолку стрекочущей выдуманные ею похабные русские пословицы и поговорки?
– На лице его отчётливо проступала желтоватость, свидетель наличия в его душе солидного процента целлюлозы, однако возиться с бумагой толком не умел… Представь женщину зрелого возраста: плавает в морской купальне… В бирюзовой воде поблескивают перламутром ухоженные ногти на ногах, а, когда вылезает из бассейна и стоит рядом, бросается в глаза глубокая старческая морщина за ухом.
– Итак, отец Лев ухаживал за своей теологической морщиной и…
– Поставлял свои труды в редакцию церковного официоза под конвоем жены. В Москве чета останавливалась у священника Рожнова, с ним отец Лев грыз гомилетику в семинарии.
– Кстати, почему ты всё-таки не пошёл учиться в семинарию?
– Ты помнишь, как Иванушка-дурачок за чудом ходил? В духовную ремеслуху меня не взяли, потому что хоть и начертано в Писании: «Мы безумны Христа ради», никого, кто имеет военный билет со штампом, освобождающим его от армии в связи с тем, что у него не все дома – в бурсу на порог не пустят. Да и просочись я контрабандой в эту школу, удрал бы из неё, по мнению экс-ректора, через три месяца, как Чапаев из академии генштаба! …Гегель наотрез отказывался преподавать в семинарии…
– А Розанов считал, что в быке, поднимающемся на корову, больше богословия, чем во всех духовных академиях!
– По гороскопу я бык.
– Не могу понять, как тебя, здравомыслящего «тельца» упрятали в психушку? Ты что? Подражая царю Давиду чертил на дверях, пускал слюни? За что?
– Да за что угодно! Хотя бы за то, что сунул сырые сны на просушку в психоанализ, написав очерк о жизни и творчестве поэта, который пустил себе из револьвера пулю в грудь…
– Из-за невозможности встречаться в борделе с Лилей Брик?
– Спустя тридцать лет этот эскиз, набросанный дипломированным шизоидом, опубликовал в Москве «Новый психиатрический журнал», издаваемый на средства Швейцарии.
– Ты сочинил его, когда сам был близок к суициду?
– Когда министр госбезопасности бил челом в Кремль (и Кремль одобрил) о развёртывании сети психбольниц для защиты государственного и общественного строя…
– От посягательств диссидентов!
– Когда хватают ночью из квартиры и водворяют в бедлам… сколько нужно усилий, чтобы выдержать обстановку дурдома?.. «Завяжите мне руки, хочу выколоть себе глаза!» – канючит хромой интеллигент. Ему суют семь-восемь таблеток.
– У вас на лице блуд, похоть, шизофрения! – заявляет врачихе косой псих.
– Странно, почему вам не назначают уколы? – заигрывает со мной незамужняя медсестра.
– А вам что, очень хочется увидеть мою задницу? – с вежливой злостью реагирую я, перепуганный вопросом, опасаясь, как бы её реплика не навела лечащего меня медика на мысль о необходимости применения более радикального выхаживания; вместо отвратительного галоперидола (приравнённого на Западе к пыткам в концлагере), тизерцина и прочих транквилизаторов, которые я, получив у раздаточного столика и спрятав (якобы проглотив) под язык и тут же отправляясь в туалет, сплёвывая гадость в дырку, – вместо налаженной манипуляции, устраивающей меня, психиатров, органы правосудия и любой трибунал, вместо всего перечисленного глупая бабёнка, кокетничая с пациентом, могла натравить на меня дракона из подземелья – мерзкий шок, когда больному «всё по барабану», когда он рычит в бессознании, изо рта водопад пены, бьётся, привязанный в кровати, а на нём гарцуют гарпии-санитарки, хватают, впрыскивают в вену на руке нектар глюкозы, чтобы вернуть из Зазеркалья бреда в рай богадельни!

